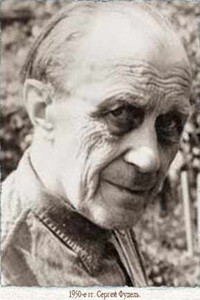Воспоминания | страница 37
И камень грязный у перил,
Там, где над домом и над шумом
Московский вечер проходил.
Усталость сердца, как вериги,
От непосильных дум и снов.
И глядя в сумрак, меркли книги,
Храня палящий пепел слов.
И в той же комнате, за шторой,
Где уходил Ставрогин в ночь,
Мы про калужские просторы
Мечты не смели превозмочь.
Иль сердце верило наверно?
Но ведь тогда ж, как вещий сон,
Явились Светом Невечерним
Нам краски тихие икон.
. . . . . . . . .
Прости меня, что я словами
Тревожу в сердце след огня...
Томит меня опять ночами
Все та же мышья беготня.
"Калужские просторы" - это, конечно, Оптина. Там было что-то еще, пишу сейчас по памяти, но смысл был один: призыв к до-священническому светлому и свободному другу. Посылая письмо, я мало на что рассчитывал: уже лежали между нами годы одиночества на разных путях. Кстати, сейчас вспомнил, как однажды С.Н., уже будучи священником, сказал мне как-то: "Сейчас время одинокое". И вот пришел ответ. Он писал примерно так: "Спасибо тебе. Я получил письмо, когда лежал едва живой в сердечном припадке, и я читал его в слезах". Тут же были выписаны строки Батюшкова:
О память сердца, ты сильней
Рассудка памяти печальной!
Но переписка и общение дружбы между нами так и не восстановились.
Говорят, что перед смертью он много плакал, что он чувствовал ее приближение и сказал своей жене: "Можешь хоронить меня или как священника, или как мирянина, мне все равно", как бы заявляя этим, что он не отрекался от священства, а только отошел от него.
Передавали мне, что и епископ Стефан (Никитин) (см. о нем: ЖМП, 1963, №7, с.26. - В.П.), знавший его лично, говорил, что он никогда и нигде не отрекался от Церкви и не снимал сана.
Писать о нем мне трудно, потому что его болезни - мои еще больше, или как он мне сам написал в этом же письме: "На Страшном суде мы с тобой будем расплачиваться по одному векселю".
Когда-то, кажется, в 20-х годах, он читал в Московском богословском институте "курс аскетики", а жил он тогда в келий башни Боголюбской часовни у Варварских ворот. Мне говорил один человек, опытно и до конца жизни прошедший аскетическим путем, что когда он в этот период пришел к нему, то увидел действительно монаха-мыслителя, несущего силу и тишину.
Но "курс аскетики", т.е. учение о практике христианского пути, имеет одну особенность: если за него браться, то по этому курсу надо и идти, хоть спотыкаясь, всю долгую жизнь. Это не "Размышление о Фаусте", закончив которое можно испортить существование своим ближним или окунуться в иной вид слепоты и самодовольства.