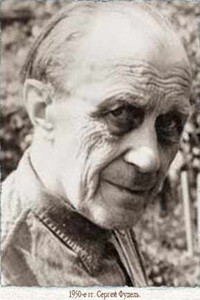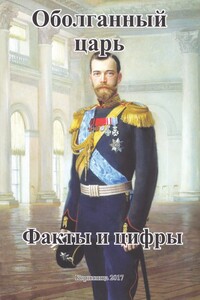Путь отцов | страница 68
Отцы именовали тело «естественным монастырем души» и учили, что душа должна ощутить свое уединенное пребывание в нем, как в убежище, чтобы отражать нападение помыслов и страстей, чтобы созидать в себе дом Божий. На этом уединенном пребывании внутри себя, а именно в сердце, на этом соединении внимания ума с сердцем в памяти Божией, основана не только защита от нападения в Невидимой брани, но и стяжание мира и возможность непрестанной молитвы. Человек должен войти в свою внутреннюю пустыню, чтобы идти в Землю обетованную.
«Клеть души есть тело… Душа входит в клеть свою, когда ум не блуждает туда и сюда по делам и вещам мирским, но находится внутри сердца нашего» (св. Григорий Палама, ЖМП, 1956, №4). Спаситель заповедал: войти в клеть свою и молиться там Богу Отцу своему втайне (Мф. VI, 6). Клеть эта, как толкует св. Дмитрий Ростовский, означает сердце» (еп. Феофан Затворник, ФШ — 382). «Все желание твое и чаяние да будет всегда обращено к невидимому посещению Божию. Но ведай, что Бог не посетит души твоей, если не найдет ее уединенною в себе самой» (преп. Никодим Святогорец, Н — 271).
«Всячески должно избегать всего, что раздражает в нас злые страсти, особенно же отсекать в себе причины страстей, и то, чем страсти, хотя бы то самые малые, приводятся в действие; когда же, несмотря на это, страсти придут в движение, надо противостоять им и бороться с ними. Для того и другого самое лучшее — погружаться во внутреннего своего человека и там уединенно пребывать, непрестанно возделывая виноградник сердца своего. Когда ум наш пребывает там уединенно и отшельнически, тогда не он уже ведет брань со страстьми, но благодать» (св. Исаак Сирин, Д II–680).
В чем же основной смысл этой брани, продолжающейся всю долгую жизнь? — испытании человеческой любви и свободы.
«Не хочет Бог, чтобы делание (подвизающихся) оставалось неискушенным, но чтоб подвергалось большим испытаниям. Почему напускает на них огнь искушений и на время сокрывает даваемую им свыше благодать, а духам злобы иной раз попускает взволновывать тишину помыслов их, чтоб видеть склонение души, кому она больше угодить хочет: Творцу ли и Благодетелю Своему, или мирскому чувству и сласти удовольствия чувственного. И потом, или усугубляет им благодать, если они преуспевают в любви Его, или бичует искушениями и скорбями, если пристрастны к земным вещам» (преп. Никита Стифат, Д 5–124).
Свободе человека предстоит в течение всей его жизни постоянный выбор между жизнью и смертью, и этот выбор нужно делать на пороге ума, на пороге во внутреннюю обитель человека.