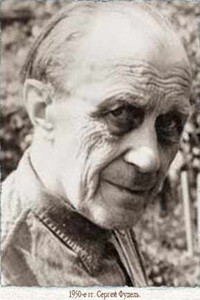Путь отцов | страница 59
«Горделивый праведник есть грешник, не видящий своей греховности» (еп. Игнатий Брянчанинов).
«Гордость есть начало и корень всех зол в роде человеческом и поистине есть гибель или смерть души» (преп. Амвросий Оптинский, АМ — 201). «Помышляя о внешних своих делах благочестия, что они хороши у них, они думают, что достигли уже совершенства и, возгордеваясь от этого, начинают осуждать других. После сего нет уже возможности, чтобы кто–либо из людей обратил таковых, кроме особого Божия воздействия. Удобнее обратится на добро явный грешник, нежели скрытный, укрывающийся под покровом видимых добродетелей» (преп. Никодим Святогорец, Н — 15).
«Писание диавола называет нечистым за то, что с самого начала отверг он благое сокровище смиренномудрия и возлюбил гордость» (преп. Исихий Иерусалимский, ДП — 171). «Не блуд только сквернит предающихся ему, но и гордость, даже последняя гораздо больше» (свт. Иоанн Златоуст, ВЛ — 187).
Как трудно нам, внешним, понять это «гораздо больше!». Нам все кажется, что подобные слова сказаны в стиле какой–то литературной гиперболы, к которой можно не относиться серьезно. Мы так пропитаны душевными и тягчайшими пороками, мы, неся их нечистоту, чувствуем себя такими нравственно чистыми людьми, что только после какого–то большого душевного страдания бываем способны хотя отчасти понять страшную реальность слов святых Отцов о нечистоте душевных страстей.
Вот почему Отцы настойчиво учат, что телесный подвиг — пост, сокращение сна и т. д., служащий средством главным образом для борьбы с телесными страстями, несмотря на всю его важность, есть подвиг все же второй по значению в сравнении с «внутренним деланием», с внутренним очищением человека от его душевных пороков: только очищение души может надежно изгнать не только душевные, но и телесные страсти.
«Пимен Великий, — пишет еп. Игнатий Брянчанинов, — посвятил всего себя разумному монашескому подвигу — деланию душевному, дав значение подвигу телесному настолько, насколько он необходим для содействия подвигу душевному, отнюдь не в ущерб второму, отнюдь не для собственного его достоинства» (От. 388).
«Пост, хотя как орудие благоустрояющее хотящих целомудрия, имеет цену, но не перед Богом. Почему подвижникам благочестия не должно высокоумствовать по поводу его, но от единой веры в Бога чаять достижения своей цели» (блаж. Диадох, Д III — 34).
Веру все святые понимали, конечно, по–Апостольски, т. е. как силу, действующую любовью и доказывающую себя в святости духа.