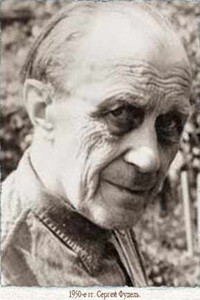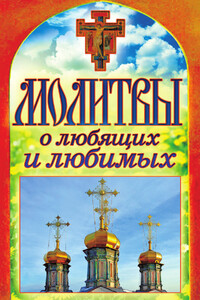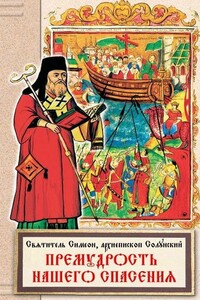Путь отцов | страница 44
«Как солнце, будучи совершенно, изливает от себя всем совершенную, простую и равную благодать, но каждый насколько имеет очищенное око, настолько и принимает солнечный свет, так и Дух Святый верующих Ему соделал от крещения способными к принятию всех Своих действий и даров; однако дары Его действуют не во всех в одной мере, но каждому даются по мере делания заповедей, поколику он засвидетельствует благими делами и покажет меру веры во Христа» (преп. Марк–подвижник, Д I — 490).
Весь смысл христианского подвига в том, что исполнением заповедей раскрывать в себе полученный даром в крещении Солнечный Свет.
Пронизанность всей аскетики светом учения о благодати делает светлым само понятие подвига. Мы очень не любим это слово и, думается мне, не только потому, что не любим узкий путь к Царству Божию. Виденные или слышанные нами примеры ложного подвига отбили у нас к нему всякий вкус. Вспомним хотя бы старца Ферапонта из «Братьев Карамазовых», большие и малые прототипы которого всегда имелись среди подвизавшихся. У преп. Никиты Стифата есть о них такие слова: «Многие из верных и ревностных христиан тела свои многими подвижническими трудами измождили; но как они при сем не имеют умиления от сокрушенного и благолюбивого сердца и милосердия от любви к ближним и к самим себе, то оставлены пустыми, лишенными исполнения Духа Святого и удаленными от истинного познания Бога, имея мысленные ложесна свои неплодными и слово бессольное и бессветное» (Д V — 170).
У других Отцов есть еще более суровые обличения ложного подвижничества. Ложь его в гордости подвига, в утверждении всех дел его, как спасающей силы, что наглухо закрывает дверь для благодати, а тем самым любви и смирения. «Душа истинно христолюбивая, хотя бы совершила тысячи праведных дел, по ненасытимому стремлению своему к Господу думает о себе, будто бы ничего еще не сделала… она уязвлена любовью Небесного Духа (преп. Макарий Великий, Д I — 229).
Святые жили в окружении Света Его, весь их путь освещался лучами Его, он ослеплял им глаза и они уже не видели себя, не замечали себя и своих дел. Неся свои кресты, они знали, что спасение свое они имеют только от одного и уже никогда больше не повторимого в мире Креста, что не оправдится пред Тобою всяк живый(Пс. CXLII, 2), что несмотря на всю неизбежность делания «неключимого раба» — «подвиг Владыки, а венец наш» (св. Иоанн Златоуст, ЖМП 1957, № 4). «Знаю монахов, которые после многих трудов пали и обезумели, потому что понадеялись на свои дела» (преп. Антоний Великий, От. 30). В гордости подвига или своих «должных» или «сверхдолжных» дел, или своего «нравственного состояния» (если и подвига и дел никаких нет) — все то же древнее фарисейское заблуждение: