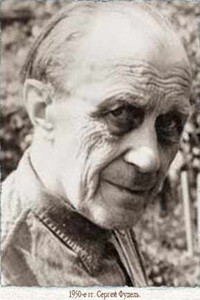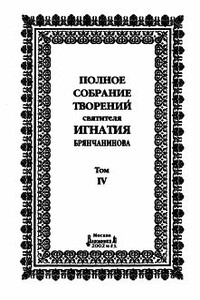Путь отцов | страница 14
«Брат сказал авве Агафону: мне дана заповедь, но исполнение заповеди сопряжено со скорбию: и хочется исполнить заповедь, и опасаюсь скорби. Старец отвечал: если бы ты имел любовь, то исполнил бы заповедь и победил бы скорбь» (От. 48).
«Явный знак любви Божией есть сердечная радость о Боге: ибо что любим, о том и радуемся. Как мед услаждает гортань нашу, когда вкушаем его, так увеселяет сердце наше любовь Божия, когда вкушаем и видим, яко благ Господь (Пс. XXXIII, 9). Истинный любитель Божий мир и все, что в мире есть, презирает, и к единому прелюбезному своему Богу стремится» «О, любовь, любезная и сладкая любовь!» (свт. Тихон Задонский, Т, 100, 104).
«Благодать… с самого того момента, как приемлем крещение, сокровенно начинает пребывать в самой глубине ума (духа), утаевая присутствие свое от самаго чувства его. Когда же начнет кто любить Бога от всего произволения (сердца) своего; тогда она неизреченным некиим словом беседует к душе через чувство ума, часть некую благ своих сообщая ей. Вследствие сего, кто восхощет навсегда крепко удержать в себе сие обретение, тот приходит к желанию отрещись с великою радостию от всех настоящих благ, чтоб совсем приобресть то поле, на коем нашел он сокрытым сокровище жизни» (Мф. XIII, 44) (блаж. Диадох, Д III — 51).
«…Упоенный любовию Божиею, в сем мире, т. е., в доме рыдания забывает все свои труды и печали, и по причине своего упоения делается бесчувственным ко всем греховным страстям…» (преп. Исаак Сирин, Д II, 688).
«Любовь к Богу естественно горяча и делает душу исступленною. Почему сердце, ощутившее ее, не может вместить ее и стерпеть, но по мере качества (своего) и нашедшей на него любви, видится в нем изменение необычное… Сим духовным упоением упоевались некогда Апостолы и мученики» (он же, Д 5–441).
«Любовь по качеству своему есть уподобление Богу, сколько оно доступно для смертных; по действу — опьянение души; по свойству — источник веры, бездна долготерпения, море смирения» (св. Иоанн Лествичник, Д. 5–440).
Вот обычные определения св. Отцов любви к Богу и состояния человека, ее стяжавшего. Тут не холодный расчет догматического понимания, который лежит у нас в папке с другими бумагами, а именно любовь к живому лицу человеческой истории — Богу и человеку, к Тому, чье мертвое тело пеленали Иосиф с Никодимом и Которому воскликнула Мария Магдалина: Раввуни!(Ин. XX, 16).
Святые Отцы средних и новых веков по преемству приняли от первохристианства его первую любовь, «которою упоевались Апостолы и мученики», и поэтому истинное монашество Востока можно назвать непрекращающимся первохристианством. Весь свой подвиг Отцы воспринимали первохристиански, т. е. не как расчетливое выполнение «должных» или «сверхдолжных» дел католичества, а как неутолимую жажду любви–сораспятия со Христом: «Глубоко уязвившийся любовию к Богу, — говорит преп. Никита Стифат, — не имеет достаточных к удовлетворению сего расположения сил тела: ибо в трудах и потах подвижничества нет насыщения сему его расположению. Находясь в состоянии, подобном тому, в каком находится томимый крайнею жаждою, ничем не может он до насыщения удовлетворить внутренней жгущей его жажды… Полагаю, что таким же сверхъестественным жаром любви пленены быв, и мученики Христовы не чувствовали мук и насыщения не имели, предаваясь им; но сами себя побеждали распаленным к Богу рвением, и всегда находили, что страдания их далеко отстают от меры их пламенного желания страдать за Господа» (Д 104–105).