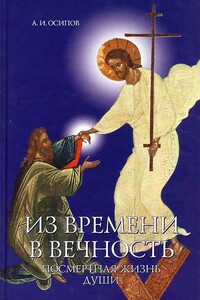Путь разума в поисках истины. Основное богословие | страница 63
К следующим выводам приходят наши отечественные философы. В коллективном труде «Логика научного исследования», составленном под руководством директора Института философии П. В. Копнина († 1971 г.), читаем: «К идеалу научного знания всегда предъявлялись требования строгой определенности, однозначности и исчерпывающей ясности. Однако научное знание всякой эпохи, стремившееся к этому идеалу, тем не менее не достигало его. Получалось, что в любом, самом строгом научном построении всегда содержались такие элементы, обоснованность и строгость которых находились в вопиющем противоречии с требованиями идеала. И что особенно знаменательно — к такого рода элементам принадлежали зачастую самые глубокие и фундаментальные принципы данного научного построения. Наличие такого рода элементов воспринималось обычно как просто результат несовершенства знания данного периода. В соответствии с такими мнениями в истории науки неоднократно предпринимались и до сих пор предпринимаются энергичные попытки полностью устранить из науки такого рода элементы. Однако эти попытки не привели к успеху. В настоящее время можно считать доказанной несводимость знания к идеалу абсолютной строгости. К выводу о невозможности полностью изгнать даже из самой строгой науки — математики — «нестрогие» положения, после длительной и упорной борьбы, вынуждены были прийти и «логицисты»…
Все это свидетельствует не только о том, что любая система человеческого знания включает в себя элементы, не могущие быть обоснованными теоретическими средствами вообще, но и о том, что без наличия подобного рода элементов не может существовать никакая научная система знания» (Логика научного исследования / Под ред. П. В. Копнина. М., 1965. С. 230-231).
Эти заявления ученых становятся еще более понятными в свете общего взгляда на характер развития научного знания. Все оно делится как бы на две неравные части: первая — действительное знание, имеющая незначительный объем, и вторая — незнание, занимающая почти весь спектр науки: теории, гипотезы, модели, «догадки», по выражению Р. Фейнмана. При этом, по мере роста второй части, объем первой, естественно, уменьшается, поскольку решение каждой проблемы, расширяя кругозор знания, порождает целый круг новых вопросов, то есть увеличивает незнание, и так до бесконечности. Это хорошо понимал уже древний мудрец Сократ († 399 г. до Р. Х.), и потому вполне искренне говорил: «Я знаю, что ничего не знаю».