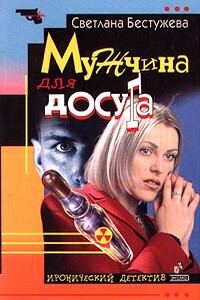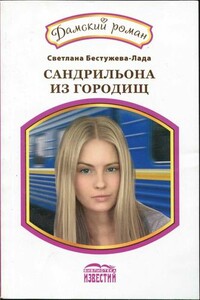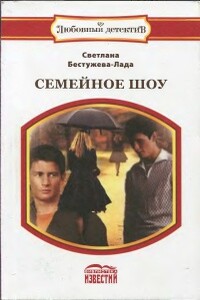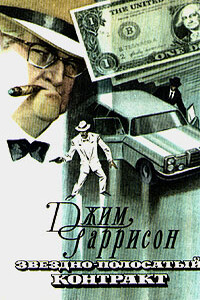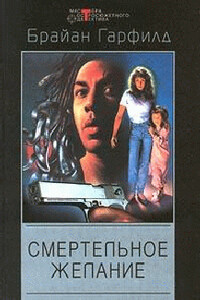Вычислить и обезвредить | страница 77
Отношения бабушки и жены моего отца никак не складывались. Со мной бабушка говорила только по-русски, но в присутствии невестки немедленно переходила на французский — безупречный, но безнадежно старомодный. Мать же презрительно фыркала и говорила только одно слово:
— Санкюлоты!
Долгое время я думал, что это — какое-то ругательство, и только в лицее узнал — так называли первых французских революционеров, а если дословно перевести на русский, то — голытьба. Нищие без роду и племени.
Нищие — да, но не безродные! Один раз я попытался что-то доказать, но получил от матери такую оплеуху, что зарекся выступать. Она и так считала, что сделала моему отцу величайшее одолжение — вышла замуж за него, русского, из милости к усыновленному французом. А тут ещё я…
Соседка обнаружила меня горько рыдающим в углу двора и, быстро выяснив, в чем дело, одной фразой разрушила мой и без того непрочный детский мир:
— Мачеха и есть мачеха. Родного сына пожалела бы…
В тот момент мне показалось, что жизнь кончена. Что я никогда уже не смогу ничему радоваться, ни с кем разговаривать. Моя мать — не моя мать. А кто же тогда?
Этот вопрос долго меня мучил, но задать его я не осмеливался до тех пор, пока не нашел случайно в чулане коробку со старыми фотографиями. На одной — миловидная тоненькая женщина смеялась, сидя на коленях у моего отца. И лицо у него было совершенно другое, не такое, каким я привык видеть его изо дня в день: доброе, открытое, любящее. С трудом дождался его возвращения из очередной поездки и спросил: кто это? К его чести, он не стал увиливать от прямого ответа.
— Это моя первая жена. Она умерла через год после свадьбы.
— Она была моей матерью? — задал я следующий вопрос.
Он промолчал, только лицо его болезненно передернулось.
— Это моя мать? — не отставал я.
Но момент откровенности уже миновал. Всю правду я узнал позже, и не от отца, а от бабушки, за несколько дней до её смерти. Вот этого времени я никогда не забуду, не смогу забыть. Семнадцать дней, показавшихся мне вечностью, я провел в душной, полутемной комнате возле постели умирающей и с бессильным страхом наблюдал за угасанием последнего по-настоящему близкого мне человека. Я ничем не мог ей помочь, и уже тогда понял, что самое страшное — это быть бессильным наблюдателем, сидеть, стиснув руки и зубы, сглатывать то и дело подступающие к горлу слезы.
«Мужчины никогда не плачут». Я ни о чем не мог думать, в мозгу проносились какие-то беспорядочные воспоминания, и лишь одно из них осталось со мной на всю жизнь: нельзя позволять судьбе брать над собой верх, нужно всегда и везде оставаться её господином.