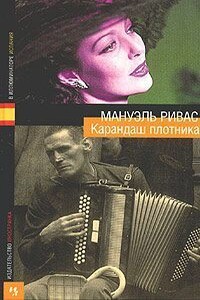Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека | страница 30
Ходил Гоша зимой и летом в буром хлопчатобумажном свитере и в душегрее, сшитой из кусков старой овчины. Порты его гульфиком волочились по земле и из-за косолапости ног морщились гармошкой. Зимою поверх этого он надевал наполовину окороченный козлиный дворницкий тулуп, сильно обрезанные валенки и, нахлобучив малахай, превращался в местное пугало.
Обитал Гоша в бывшем дровяном чулане площадью не более четырех квадратных метров между первым и вторым этажами старого дома на 17-й линии Васильевского острова, недалеко от Смоленки. Стены дровяника, оклеенные питерскими газетами и линялыми страницами «Огонька», завершались «бордюром» из фотографий каких-то знатных военных и трудящихся 1930-х-1940-х годов. Справа от двери к проходящему печному стояку прилеплена была кривая печурка, а вдоль стены громоздился продавленный кожаный диван, выброшенный кем-то по старости из «буржуазной» квартиры. Между диваном и стенкою втиснут был ватник — собственность ближайшей собачьей подруги хозяина, бело-рыжей лайки, суки по кличке Стёпа.
На печке стояли медный лужёный чайник и кастрюля, выше, на выступе стояка, под потолком, находилась кривая, пожившая во времени птичья клетка.
Над дверью с внутренней стороны каморки висело печатное изображение забытого в ту пору патриарха Тихона, видимое только с дивана, если на него глубоко сесть или лечь.
Гошины рассказы были чудными: «Одновременно с моей матерью в казённом роддоме опросталось еще две, причём одна из них — тремя близнецами. Из всех рождённых я оказался самым безобразным — просто зверюшкой какой-то, даже испуг прошёл по всем повитухам от меня. Сильно ослабевшей матушке из жалости показали одного из близнецов. Меня же третьим отнесли близнецовой матери, и та с испуга, естественно, отказалась от уродца. Так я и попал в дом призрения и там почему-то сохранился. Да, забыл сказать, что все возникшие рождённые новички жутко орали, и от ора всё запуталось до того, что какой я матери — до сих пор не знаю. Хотелось бы от своей матери быть, но не выходит никак. А тут ещё вдруг война напала — Первая империалистическая, и опять всё помешалось, сутолока всякая, в ней-то я возьми и, незнамо как, потеряйся. Меня искали-искали, нашли, конечно, но не те, а другие. Они своего искали, а я попался — взяли. Дожил я у них до понятливого состояния, а как стали попрекать, что достался я им случаем да ещё больно плохонькой личностью, я возьми и убеги из их дома. Так и стал шатуном с самого своего малолетства. От недостатка материнской любви дорос только до карлы. Но видишь, как оно всё поворачивается — убогостью ведь кормлюсь, русскую жалость вызываю».