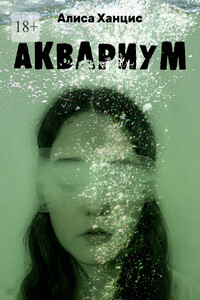Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека | страница 17
За спиною отглаженного капитана висел портрет Козлобородого — Феликса Эдмундовича Дзержинского — такого же размера, как портрет вождя. Глядя на него, я вспомнил, как еще малолеткой в войну, будучи воспитанником детприёмника НКВД города Омска, ночью под Новый год, втайне ото всех, в зале, где стояла елка и висел портрет родоначальника ЧК, — обратился к нему по-польски (я тогда ещё говорил по-польски) с просьбой вернуть мне мою матку Броню и моего старшего брата Феликса — тёзку его, по-домашнему — Фелю, за что поклялся Маткой Боской исправиться и стать показательным воспитанником. Но он не откликнулся.
Суточный хозяин главной штабной дежурки долго проверял папку с векселями[4] на меня. Иногда спрашивал о чем-то экспедитора, стоявшего за стойкой с общей стороны. В конце морокования встал из-за письменного стола с одной из бумаг и пошёл к двери. «Наверное, за печатью легавого прокурора, начальника всех коллонтаев Эсэсэрии, — подумал я. — Накладную на меня оформляет. Надо ведь отпустить возилу в Чухляндию».
«Кайки, пойка[5], — подмигнул мне вдруг Мутный Глаз, — скоро станешь местным, ленинградским». И, подойдя близко, впервые по-доброму похлопал меня по плечу. «А мать-то когда приведут?» — спросил я. «Инструкцию тебе внушат, как жить, и приведут. Не бойся. Всё — кайки! Ты свободен!». Как только в дверях появился капитан, мой эстонский желатель превратился снова в латышского стрелка. Получив бумагу из рук начальника, упрятал её в портфель, щёлкнул каблуками по-военному, круто повернулся через левое плечо и вышел из зала, не попрощавшись со мной и так и не увидев своим мутным глазом мою матку Броню.
Капитаново наставление оказалось коротким. Он велел мне на воле нигде, никогда, никому не говорить, где я был и откуда вышла моя мать, иначе нам стане худо и никуда мы от них не денемся. Накалякав какую-то бумаженцию, отдал её рядовому легавому, шнырявшему из двери в дверь. Встал из-за стола, облокотившись на свой барьер, показал мне рукой на открывающуюся дверь и неожиданно для меня сказал: «Вот твоя мать».
С правой стороны от портрета Усатого из громадной дубовой двери вышла тётенька — очень худая и очень красивая, с шапкой пшеничных волос, уложенных венчиком вокруг головы. Она осторожно шла ко мне против света, по диагонали. Смотрела на меня большими серо-голубыми удивлёнными глазами и что-то говорила, но что говорила — я не понимал. Язык её был мне знаком, я знал его в малолетстве, но забыл, забыл… Я растерялся… Встал с огербованного дивана, почему-то спрятал руки за спину и оцепенел.