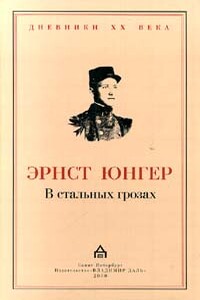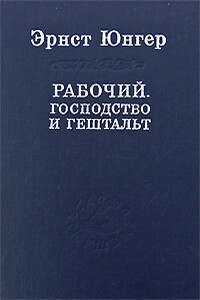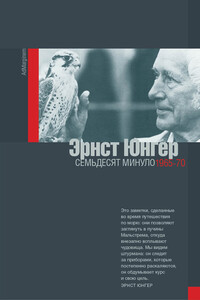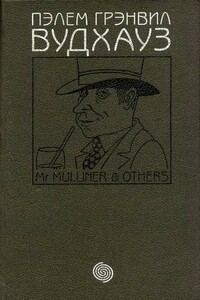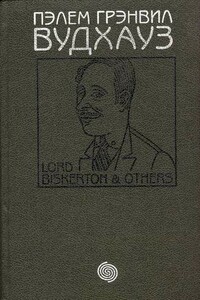На мраморных утесах | страница 20
В Кампанье, где тропы пастбищ пересекают границы районов, можно было часто увидеть маленьких пастушьих богов. Они почитались стражами сельских общин и были непритязательно вырезаны из камня или старого дуба. О них можно было издалека узнать по прогорклому запаху, который они источали. Традиционное пожертвование состояло в наливании горячего масла и жира внутренностей, который наскрёб для этого жертвенный нож. По этой причине ты всегда видел на зелёной пастбищной почве вокруг изображений чёрные шрамы от маленьких огоньков. После поднесения дара пастухи оберегали ими обуглившийся стебелёк, которым в ночь солнцестояния они сразу ставили метку на тело всего, что должно было забеременеть: женщины либо скотины.
Если мы встречали в таком месте служанок, идущих с дойки, они прикрывали лицо косынкой, а брат Ото, который был другом и знатоком садовых богов, никогда не проходил мимо, не посвятив им шутку. Он также приписывал им солидный возраст и называл их спутниками Юпитера времён его детства.
Потом там ещё была, недалеко от Филлерхорна[15] небольшая роща плакучих ив, в которой стояло изображение быка с красными ноздрями, красным языком и раскрашенным красной краской членом. Место пользовалось дурной репутацией, и с ним было связано предание о жестоких праздниках.
Но кто бы мог поверить, что масляным и жировым богам, наполняющим вымя коровам, теперь начнут поклоняться в Лагуне? И это происходило в домах, где испокон веку насмехались над жертвой и жертвоприношением. Те же умы, которые считали себя достаточно сильными, чтобы разорвать путы древней веры предков, оказались порабощёнными колдовством варварских идолов. Картина, которую они предлагали в своём ослеплении, была отвратительнее опьянения в полдень. Полагая, что они взлетают, и, похваляясь этим, они между тем копались в пыли.
Дурной знак заключался и в том, что они распространяли это заблуждение на почитание мёртвых. Во все времена в Лагуне было очень знаменито сословие поэтов. Они считались там вольными дарителями, и талант написать стихотворение рассматривался как источник изобилия. То, что цвела и плодоносила лоза, то, что люди и домашние животные развивались, то, что злые ветра развеивались и в сердцах жило бодрое единодушие — всё это приписывали благозвучию, живущему в гимнах и песнопениях. В этом был убеждён даже самый мелкий виноградарь, и даже более в том, что благозвучие обладает целебной силой.
Никто не был там настолько бедным, чтобы не отнести первое и лучшее, что приносил его сад и фрукты, в хижины мыслителей и кельи поэтов. Там каждый, кто чувствовал себя призванным духовно служить миру, мог жить в досуге — правда, в бедности, но не в нужде. Теми, кто обрабатывал пашню и возделывал слово, всегда считалась образцом древняя фраза: «Лучшее боги дают нам даром».