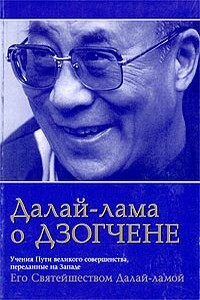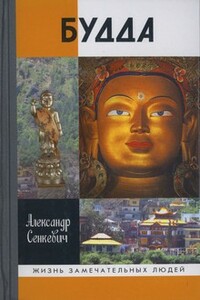Избранные сочинения второго Далай-ламы | страница 19
Таким же заблуждением является и то конкретное “я”, которое, как кажется, существует где-то внутри тела и ума. Понятие “я” олицетворяет собой тело и ум не более, чем слово “человек” — видимый на вершине горы камень. Это “я” не может гнездиться где-то в каком-либо участке тела и ума, его нельзя найти и в совокупности тела и ума, и вне них тоже нет такого места, которое можно было бы назвать вещественной основой объекта, именуемого словом “я”.
Медитируй так, пока не станет очевидно, что “я” не существует в том виде, как это кажется.
Все дхармы в круговороте бытия и вне его тоже представляют собой просто произвольное обозначение, то или иное название, мысленно налагаемое на подразумеваемую основу. Никакого иного бытия, чем таковое, у них нет.
Медитируйте длительно над этим понятием пустоты. Затем, в период после медитации, сохраняйте осознавание того, что и ты сам, и сансара, и нирвана подобны иллюзии и сновидению. Несмотря на то, что все проявляется в сознании, эти проявления лишены собственного бытия.
Такая иллюзорная природа вещей делает возможным то, что созидательные и разрушительные действия производят соответствующие кармические следствия: счастье и горе. Тот, кто обретает такое понимание, становится мудрецом, пребывающим в знании неотделимой природы — пустоты и зависимого возникновения.
Колофон: Написано буддийским учителем Гьялва Гендун Гьяцо по просьбе практикующей ученицы, Кунга Вангмо.
ЦАРЬ РАССУЖДЕНИЙ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ПУСТОТУ
Метод практики воззрения о сокровенной пустоте начинается с попытки установить объект, который предстоит опровергнуть [или то качество, которое отсутствует]. Затем применяют методы действительного его опровержения. Это делается путем сохранения осознавания пустоты во время занятия медитацией, а затем осознавание иллюзорности сохраняется в течение всего периода между занятиями медитацией. Я уже обсуждал эти вопросы подробно в предыдущих сочинениях и поэтому не буду повторяться здесь.
Здесь же предметом обсуждения будет уникальная грань рассуждения мадхьямиков-прасангиков (“рационалистов”),