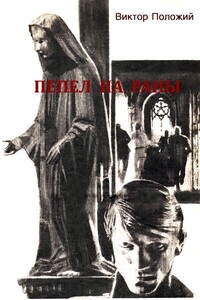Знамя девятого полка | страница 14
В камеру вошел человек – ничем не примечательный, среднего роста, в зеленом.
Безразличным взглядом светлых глаз он обвел нары, вповалку лежащих на них людей. Едва заметная ехидная усмешка скользнула по его плотно сжатым губам. Сказал негромко по-русски:
– А ну, поднимайсь! Как вызовут – п-пулей вылетай! До последнего…– и вдруг, непонятно отчего стервенея, гаркнул, вскидывая голос на неожиданно высокую ноту: – Чтэ?! Ас-собого приглашения ждете, господа колхозные дворяне?
Третьяков, любивший наблюдать за людьми, сразу определил:
– Из бывших… – и тут же стал понятен и желчный яд усмешки и необъяснимая вначале ярость изменника. Этот сам сидел, и не раз. Ох, и солона же, видно, ему пришлась диктатура пролетариата.
На нарах зашевелились. Люди мрачно, молчком, стараясь не смотреть на вошедшего, начали подниматься, пеленать ноги портянками. В камере сразу стало тесно.
…Зоркие глаза рулевого послужили Ивану Корневу и здесь… А лучше не было бы у него этих острых и светлых глаз хозяина морского горизонта. Тяжело было смотреть ими.
Сквозь пыль, поднятую колонной пленных, через всю улицу Иван прочел набранное дюймовыми буквами:
«Заняты города: Ямбург, Холм, Белая Церковь, Елисаветград, Голтва. Победоносное продвижение немецких войск на всех фронтах продолжается…»
Иван посетовал вполголоса, горько:
– Эх, что же ты не взяла меня, пуля?
Порывисто вздохнул Джалагания, нахмурился Шмелев, спросил недовольно: «Опять за старое?», а Егор Силов сказал протяжно и густо: – Куда торопишься? Возьмет еще… Она ведь дура.
– Ты в какой-то институт собирался после службы? – вдруг отчужденно и строго, точно не они раз и навсегда, еще во время совместной службы на «Мятежном», уже обсудили этот вопрос, спросил Ивана Третьяков.
– В университет, товарищ полковой… то есть Третьяков…– озадаченный непривычной суровостью тона, шепотом горько сознался Иван.
– Ну, а факультет выбрал? – все так же строго продолжал допытываться бывший полковой комиссар.
– Еще окончательно не решил. Или на лингвистический… или на философский, – совсем тихо сказал юноша.
– Вот видишь, еще даже не решил, чем тебе в жизни быть, еще всерьез школы себе не выбрал, а о пуле плачешь…-суховато упрекнул Третьяков, но, глянув на огорченное лицо Ивана, совсем по-прежнему, лучиками морщин возле глаз, усмехнулся и сказал уже гораздо мягче:
– Эх, Иван Корнев, Иван Корнев, немцы и сами еще не представляют, какую махину они пытаются раскачать и стронуть с места и что она сокрушит, если уж на то пошло. А ты о пуле горюешь. Нехорошо, брат.