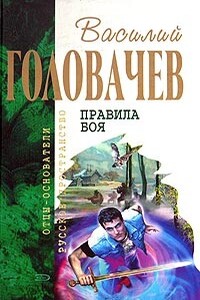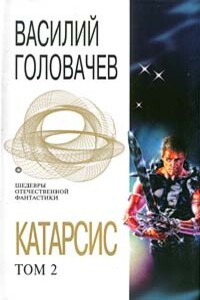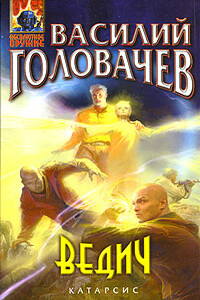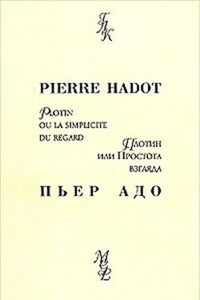Духовные упражнения и античная философия | страница 92
В этих текстах Марка Аврелия Мишле находит сначала оптимизм, веру в разум, который ведет мир, непоколебимый оптимизм, даже когда «плодотворность- средств провидения» остается нам неизвестной и непонятной. В этом оптимизме есть смысл только в силу полного изменения точки зрения, которая заставляет нас отказаться от нашего частичного и пристрастного видения индивида, чтобы обратить нас к универсальности, к грандиозной перспективе космоса и человечества. Наша индивидуальность (то есть, говорит Мишле, наше тело, наши идеи, наши системы) отождествляется с эфемерным, то есть с тем, что неумолимо погружается в прошлое. Открыться универсальности — это значит принять новизну настоящего с благожелательностью и любовью. Тема дорога Марку Аврелию и часто возникает в его Размышлениях, но Мишле решительно дает ей современную окраску, настаивая на принятии настоящего в самой его современности. Он пишет в Дневнике 184) от 11 августа 1850 года, обращаясь к Афенаиде: «Гармонизируй себя с мудростью юного мира, с его огромным прогрессом, с науками, что родились вчера, с исследованиями природы, по мере твоих способностей — с музыкой, искусством, свойственным нашему времени».
Но в этой открытости к универсальному отказ от эфемерного и приятие настоящего тем не менее не означает, что нужно игнорировать все, что имеется прочного и длительного в прошлом. Универсальность подразумевает чувство целокупности и преемственности, тесную связь между прошлым, настоящим и будущим. Эта тема идентичности человечества, обеспеченной историческим сознанием, уже присутствующая в Речи о единстве Науки, снова великолепно формулируется на страницах Дневника 1851 от 4 апреля 1842 года, который и является предметом нашего комментария:
Да, теснейшая связь объединяет все эпохи. Мы — сменяющие друг друга поколения — держимся не как звенья одной цепи, не как бегуны, о которых говорит Лукреций, передающие друг другу факел. Мы держимся совсем по-другому. Мы все были в лоне первых отцов, в чреве тогдашних женщин, пусть это будет понято в материальном смысле или нет, не имеет значения. Один и тот же текучий дух бежит от поколения к поколению. Инстинктивные движения заставляют нас вздрагивать по поводу прошлого, будущего, раскрывают нам глубинное единство человеческого рода.
Тот, кто ничего этого не почувствует, кто самоизо- лируется в каком-то одном моменте жизни мира, отрицая, что он в чем-либо принадлежал к истекшим поколениям, тот, если бы это было возможно, сократился бы до очень незначительной величины. Он остался бы в состоянии ребенка. Nescire historiam id est semper essepuerum: но сколькие хотят ускользнуть от истории — и ничего не задолжать прошлому?