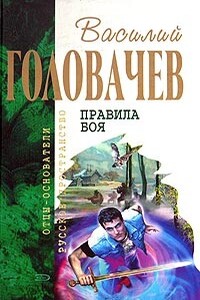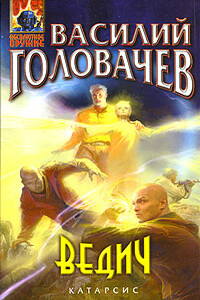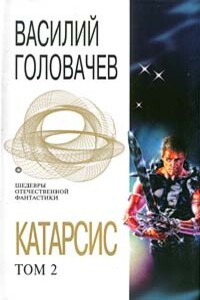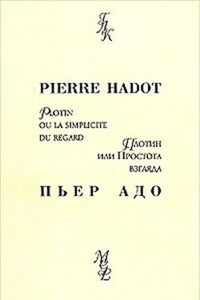Духовные упражнения и античная философия | страница 58
В Шопенгауэре как воспитателе эта фигура Сократа, влюбленного в живое, связана для Ницше с Шопенгауэром. Но, говоря о веселости мудреца, он вспоминает как раз стихи Гёльдерлина и пишет следующие незабываемые строки:
…человек не может пережить ничего лучшего и более радостного, чем близость к одному из тех победителей, которые, познав глубочайшее, должны полюбить самую основу жизни, и, будучи мудрецами, в конце пути приходят к красоте. Они действительно говорят, а не заикаются и не болтают вслед за другими; они действительно движутся и живут, и не в тех жутких масках, в которых обыкновенно живут люди. Поэтому в их присутствии мы действительно чувствуем себя человечно и естественно и готовы воскликнуть вместе с Гёте: «Какая роскошная, драгоценная вещь — живое! Как приноровлено оно к своему состоянию, как истинно, как реально!» 125).
Сократ музыкант'. Ницше верил в это, он предчувствует его приход в Рождении трагедии. Отвечая на призыв божеств, которые в его снах приглашали философа посвятить себя музыке, эта фигура Сократа-музыканта примиряет ироническую ясность рационального сознания и демонический энтузиазм. Это действительно был бы человек трагического познания, говорится в Неизданном 126). В этом Сократе-музыканте Ницше воплощает свою собственную мечту, свою ностальгию по примирению между Аполлоном и Дионисом.
И в Умирающем Сократе Ницше снова видит отражение своей собственной драмы. Сократ умирая, произнес следующие загадочные слова: «Критон, мы должны Асклепию петуха» 127), как если бы, избавившись от болезни, стал должником бога здоровья. «Это смешное и страшное „последнее слово“, — с волнением пишет Ницше, — значит для имеющего уши: „О Критон, жизнь — это болезнь!“ Возможно ли! Такой человек, как он, проживший солдатом весело и на глазах у всех, — был пессимист! Он только сделал жизни хорошую мину и всю жизнь скрывал свое последнее суждение, свое сокровеннейшее чувство! Сократ, Сократ, страдал от жизни! И он отомстил еще ей за это — тем таинственным, ужасным, благочестивым и кощунственным словом! Должен ли был Сократ мстить за себя? Недоставало ли его бьющей через край добродетели какого-то грана великодушия? — Ах, друзья! Мы должны превзойти и греков» 128).
Как превосходно показал Э. Бертрам, здесь Ницше дает читателю угадать свой собственный секрет, свое собственное внутреннее сомнение, драму своего существования. Он, Ницше, который хотел быть певцом радости существования и жизни, не подозревает ли он, не страшится ли тоже, в конце концов, того, что существование есть всего лишь болезнь. Сократ выдал эту тайну, он дает понять, что думает о земной жизни. Но Ницше хочет принадлежать к «более высокому классу умов», таких умов, которые умеют молчать об этом ужасающем секрете. «Его пылкий — дионисийский — дифирамб жизни и ничему, кроме жизни, — пишет Э. Бертрам, — разве он не был лишь только формой тишины, в которой великий воспитатель жизни не верил в жизнь?»