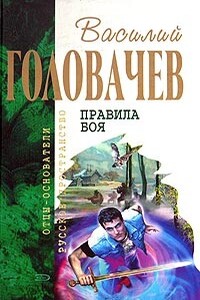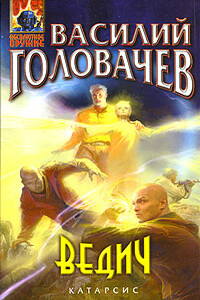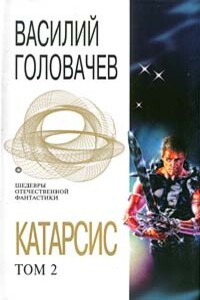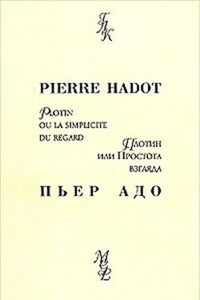Духовные упражнения и античная философия | страница 48
Сократическое сознание тоже разделено и разорвано, но не фигурой Христа, а фигурой мудреца, трансцендентной нормой. Справедливость, как мы видели, не определяется, она переживается. Все речи мира не смогут выразить глубину решения человека, который избирает для себя: быть справедливым. Но всякое человеческое решение хрупко и неустойчиво. Желая «быть справедливым» в том или ином поступке, человек как бы предчувствует жизнь, которая будет справедлива вполне. Это — жизнь Мудреца. У Сократа есть осознание того, что он не мудрец. Он не sophos, но pbilosophos, не мудрец, но человек, желающий мудрости, потому что он ее лишен.
Удивительно верно говорит П. Фридлендер, что «ирония Сократа есть напряженное ощущение разницы между тем, кто сознает то, что не знает справедливость (то есть не может выразить ее словами), и тем, кто через ничем не опосредованный опыт ощутил в этом слове соприсутствие Богу» 76). И если Кьеркегор — христианин только потому, что осознает: я — wf-христианин, так и Сократ — мудрец лишь потому, что понимает: он ме-мудрец. Из этого чувства лишенности рождается неодолимое по своей глубине желание. Вот почему Сократ-философ облачится для западного сознания в черты Эрота — вечного странника, взыскующего истинной Красоты.
II Эрот
Принято говорить, что Сократ в историческом отношении впервые представляет мышление западного толка. По точному замечанию В. Йегера 77), сократическая литература, обозначенная творениями Платона и
Ксенофонта, стремилась к созданию портрета литературного Сократа, стараясь передать его единственность. Такое намерение породило, конечно, опыт исключительный, подразумевающий столкновение с личностью необычайной. К тому же, по словам Кьеркегора 78), и чрезвычайная напряженность чувства atopos, atopia, ato- potatos, часто ощущаемая в «Диалогах» Платона 79) при описании характера Сократа, например, в Теэтете (149а): «…рассказывают, (…) что-де я вздорнейший человек (atopotatos) и люблю всех людей ставить в тупик (арогга)». Это слово этимологически значит «лишенный места», посторонний, причудливый, нелепый, не поддающийся общественным канонам, сбивающий с толку. В Пире, в панегирике Сократу, Алкивиад настаивает на этой его особенности. Алкивиад живет обычно; мы, говорит он, люди общества, представляем собою типы, сопоставляемые с кем-либо; например, бывает человек «величайшего благородства и мужественности»: таков, во времена Гомера, Ахилл, сейчас с ним сопоставим Брасид, спартанский полководец; есть тип «человека красноречивого и осмотрительного» — в гомеровской древности это Нестор, троянец Антенор; сейчас с ними сравним Перикл. Но с Сократом никого не сравнишь. Никого не найдется на него похожего, — заключает Алкивиад, — разве что силены и сатиры 80). Да, Сократ — единственный в своем роде, это индивидуум, который любим Кьеркегором, пожелавшим, чтобы его надгробной эпитафией было: «Тот, Единичный» 81).