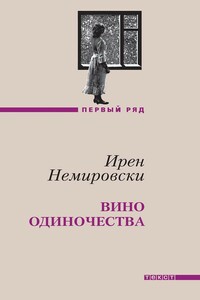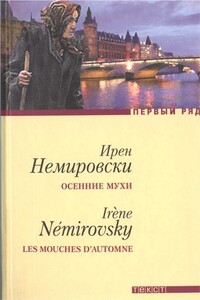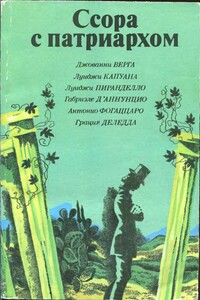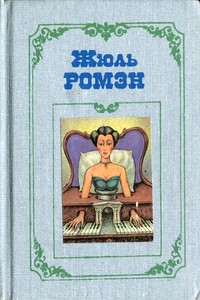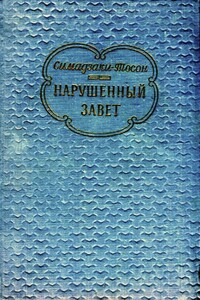Бал. Жар крови | страница 11
Что касается Анны Немировски, то она избежала ареста, добыв себе фальшивый латвийский паспорт. Когда закончилась война и Жюльет Дюмон привела внучек к бабушке, та отказалась впустить их, заявив, что для бедных детей существуют приюты. Благополучно дожив до глубокой старости, Анна Немировски умерла в 1972 году. За 34 года до этого прискорбного события Ирэн сделала следующую запись: «Что бы я ощутила, если бы мне довелось присутствовать при кончине моей матери? Вот что: жалость, потрясение и страх перед бесчувственностью своего собственного сердца. И безнадежно сознавая в глубине души, что во мне нет сожаления, что я холодна и равнодушна, что для меня это, увы, не утрата, скорее, наоборот…»
За два года в Исси-л'Эвек, когда Ирэн была вынуждена оставаться вдали от активной парижской жизни, лишенная всех гражданских и человеческих прав, практически без средств, испытывая все возрастающую тревогу за будущее своей семьи, она сумела создать целый ряд произведений, которые были опубликованы посмертно и раскрыли новые грани ее таланта. Работала она постоянно, ежедневно отправляясь с тетрадкой и пером на прогулку по окрестным лесам и лугам, — только в эти часы, ощущая царящую в природе гармонию, она могла ненадолго отвлечься от кошмара своего существования и творить с мыслями о будущем читателе.
Без какой-либо надежды увидеть книгу опубликованной из-за повсеместной «ариизации» издательств, Немировски завершает биографию Чехова[4], при написании которой она полагалась не только на факты, но и на личный опыт и детские воспоминания о поездках в Крым. Написана биография живо, доступно, основана на многочисленных сведениях как о жизни писателя, так и о России конца XIX — начала XX века. Особенно интересны страницы, на которых Немировски размышляет об истоках революционного движения, без иллюзий говорит о коррупции государственных служащих, этом «древнем, извечном зле России», о наивности интеллигенции, которая «идеализировала мужика, не утруждаясь получше узнать его»[5], и о склонности крестьян к бессмысленной жестокости.
«В России шестидесятых годов в огромном большинстве своем люди желали отмены крепостного права. […] Думали, что все беды происходят из-за того, что мужик находится в рабстве. Жалость к русскому крестьянину привела к тому, что из него сделали идеал, образец. Вместо того чтобы видеть в нем обычного человека, ни лучше ни хуже, чем другие люди, хотя и развращенного столетиями зла, русская „интеллигенция“ стремилась во что бы то ни стало увидеть пророка и святого в этом Иване, в этом Дмитрии с босыми ногами и грязной бородой. Когда наконец крепостное право было отменено, крестьянин оказался невежественной скотиной, в той же мере способной к жестокости и низости, как и бывшие господа»