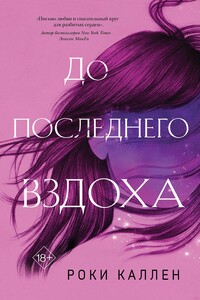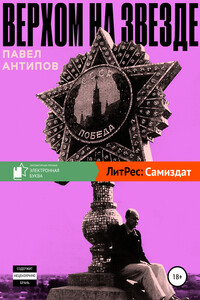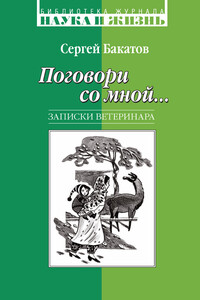Детородный возраст | страница 106
«Ну конечно, они более наивны и доверчивы, чем мы, эти европейцы. Вот и сказочников у них больше».
Человек совсем не религиозный, Маргарита, когда бывала за границей, непременно заходила в костелы и храмы, любовалась витражами и росписями, слушала гулкое звучание органа. Даже померанцевые цветы – непременный атрибут католических храмов – здесь не выглядели грубо и раздражающе, а источали аромат Рождества, витающий под этими сводами в любое время года.
– Какой-то хмель, – повторяла она, медленно обходя собор снаружи. Огромные купола перемежались с остроконечными башнями, башенками и колокольнями. По опыту предыдущих поездок зная, что всё это сразу не охватить глазом и не переварить умом, она снимала и снимала, чтоб дома рассмотреть всё хорошенько, в деталях. Детали быстро исчезают и стираются, но в них-то и вся прелесть. И вот, кажется, снимаешь и снимаешь без конца, куда потом, думаешь, это девать, а дома выясняется – не так уж много.
Кириллов, который в автобусе сразу сел рядом с ней, на шаг опередив в этом Алексея Петровича, здесь держался поодаль.
В полдень прибыли в Венецию.
То ли от самого названия города с нарядными домами-улицами, растущими прямо из воды, то ли от звучащей в автобусе песенки с повторяющимся «аморе» в каждой строчке, но Маргарита почувствовала странное и сильное волнение, и, когда перешли на катер, чтобы въехать в город, не могла сидеть – так и простояла на палубе. Туман у берега быстро рассеивался, но очертания домов проступали постепенно. С исчезновением тумана зазеленела вода, и с этой зеленью чудесно контрастировали яркие цвета домов – в основном желтые, терракотовые и белые, иногда розовые, стоящие, точно нарядная, тщательно расписанная декорация, на фоне которой когда-то происходили исторические драмы. Декорация, давно ставшая самостоятельным действующим лицом и пережившая своих героев.
По мере приближения к набережной волнение усиливалось. Маргарите стало казаться, что она как-то связана с этим малопонятным сказочным местом. Но связана не лично, а опосредованно. Вспомнила, что Дягилев умер в Венеции, и известная легенда всколыхнулась из глубин памяти: в молодости ему предсказали «смерть на воде». Из-за этого предсказания воды Дягилев тщательно избегал и, если его труппа путешествовала пароходом, неизменно выбирал иной транспорт. Когда в 1929 году в конце сезона он, как обычно, распустил артистов на лето и больной уехал в Венецию отдохнуть, никто не мог предположить, что это финал. Он, Дягилев, хотел побыть среди гармонии и красоты, поймать их волны и настроить свой инструмент совершенства. Оттого и выбрал Венецию. А жизнь закончилась. И долго-долго его под скрип весел и плеск воды одного везли на остров мертвых – Сан-Микеле. И всё распалось – гениальные танцовщики, художники и композиторы, приводимые в движение этим великим умом и вплетаемые в узор единого театрального действа, разбрелись по свету, в основном трансформировавшись в старательных ремесленников.