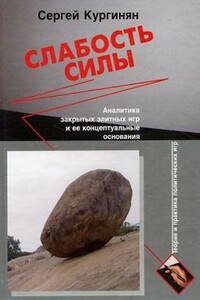Суть времени. Цикл передач. № 31-41 | страница 53
Эти вечные эрзацы, это вечное упование на то, что каким-то образом можно будет… ну, если нельзя любить, то можно развлечься; если нельзя любить, то можно приколоться; если нельзя любить, то можно… Но главное, — что нельзя любить. И смысла жизни тогда нет.
Когда возникает любовь, вместе с нею возникает счастье жертвы, счастье дара и готовности отдать. Ты счастлив, что ты можешь отдать, а не получить.
Когда ты отдаешь, тебе возвращается нечто в виде ответной волны. Ты преодолеваешь то, что Маркс называл отчуждением. Ты обретаешь полноту человеческого бытия — и вместе с нею подлинность.
Человек, который сам не может любить, не может отличить подлинное от неподлинного. Его можно водить за нос как угодно до тех пор, пока ты снова в нём не зажёг огонь любви, или этот огонь не поднялся из каких-то последних глубин и не оживил его душу.
Тогда он всё поймёт. Он сразу увидит, в чём отличие суррогата от подлинности, чести от бесчестия. Любовь рождает в человеке состояние «быть». Отсутствие состояния «быть» рождает в человеке состояние «иметь». Человек, погружённый в «иметь», несчастен, он мечется в аду. Но он может в нём метаться с разной скоростью, в зависимости от того, насколько в нём можно разбудить хотя бы эту низкую мотивацию.
То, что предложили люди, взявшие на вооружение картину Ньютона (и, прежде всего, конечно, англичанин Локк), было связано именно с тем, как использовать вот эти метания в поисках возможности «иметь», как разбудить это «иметь», как разбудить всё низменное, и какие институты, учреждения, рамки надо этому поставить, чтобы оно тянуло наверх.
Позже на столетие или больше это всё будет соединено с теорией Дарвина. Но ещё задолго до Дарвина эта социальная модель была принята на вооружение как прямое следствие модели Ньютона.
Если мир — это безупречная машина, вращающаяся по определённым законам;
если всё подчинено дифференциальным уравнениям, а все территории гладки и предсказуемы, и всё это напоминает заведённый механизм;
если такова реальность;
если разум, наконец, открыл нам подлинную реальность — не ту, которую дают нам наши ощущения и суеверия, а подлинную реальность, открытую только разумному, и мы теперь понимаем, что это естественно в высшем смысле слова, это хрустальная беспощадная красота природы,
то всё должно быть естественно.
Разум и природа — вот то, что заменило церковные догмы.
Вот Евангелие модерна — разум и природа. Именем природы и естественного, открытого только разуму и этим очень сильно отличающегося от непосредственных ощущений, от заблуждений (все мы видим, что солнце встаёт и заходит, а на самом деле всё не так)… Вот этот настоящий мир, открытый только разуму, он беспощадно красив. И если следовать законам этого мира, постигая их, и перенести эти законы на законы социума, то можно достигнуть того, что в предыдущие тысячелетия считалось невозможным, — счастья человека на земле.