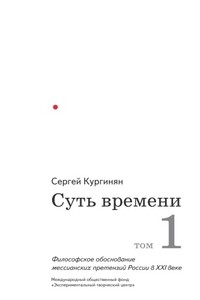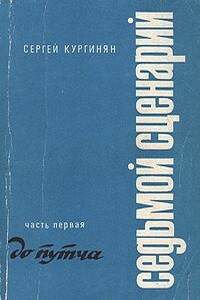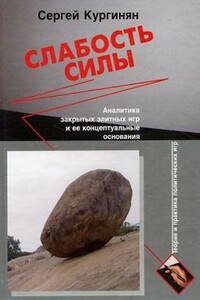Суть времени. Цикл передач. № 31-41 | страница 119
Фигушки!..
19-й век она кое-как прожила, уже терзаемая всеми муками романтизма, отрицающим такую жизнь по известному принципу: «Слушай, дорогой, кому такая жизнь нужна?! Возьми, пожалуйста…»
Потом она ответила на собственное остывание судорогой декаданса, гримасами фашизма. И только в коммунизме она получила какой-то ответ.
Меня всё время спрашивают о том, какие есть основания для того, чтобы всю эту, пока что ещё очень зыбкую, концепцию тёмной материи и тёмной энергии класть в основу новой картины мира.
Во-первых, я хочу сказать, что это делаю не я. И вообще в этом смысле очень не хотелось бы делать мне самому что-то с нуля и любоваться своими собственными построениями.
Это уже происходит.
Во-вторых, во всём этом происходящем есть один опять-таки феномен, который в своей целостности показывает больше, чем любые абстракции и любые математические уравнения.
Ведь на чём, по сути, рухнула оптимистическая либеральная теология, согласно которой зло есть необходимость, созданная благим началом ради того, чтобы позволить человеку уклоняться от добра, а значит, и проявлять свободу воли, как высшее благо?
На чём это всё вдруг начало скукоживаться?
Не на новых явлениях в психологии, социологии и культурологии, не на новых данных физики, биологии и всего прочего. А на Второй мировой войне.
Вдруг оказалось, что это [начало], построенное на отрицании подобного теологического принципа, апеллирующее к гностическому принципу, к танатосу, к тому, что называется волей к смерти, — вот это начало как-то унизительно, поразительно легко сметает всё либеральное, всё, проникнутое вот этой самой теологической идеей.
Апофеозом все этого было наступление гитлеровцев на Францию. Французы не сражались. Что бы потом они ни говорили про себя — они просто не сражались. Я обсуждал это в серии телевизионных передач, в том числе в передаче, посвящённой началу Великой Отечественной войны, где говорили, что вначале мы очень плохо воевали.
А я всё спрашивал: «А кто хорошо воевал?»
Война — это такая странная штука, которая не подчиняется букварю или любым инструкциям. Там, как мы знаем из романов Льва Толстого и очень многих исторических сочинений, всё настолько хаотично, настолько построено на каком-то бардаке, на каких-то неожиданно принимаемых решениях, что там нет формально-логических критериев: вот это хорошо, а вот это плохо.
Там всё следует поверять опытом. Если мы воевали с немцами плохо, значит, нужно указать, кто с ними воевал хорошо.