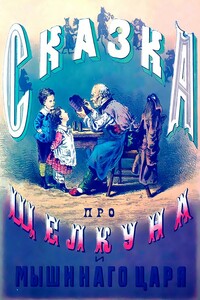Меип, или Освобождение | страница 17
Его губы хранили вкус единственного поцелуя, который он от нее получил; его руки чувствовали прикосновение ее руки, сильной и нежной, а звуки ее голоса, энергичного и веселого, раздавались еще в его ушах. Теперь, когда он был вдали от нее, он ясно понял, что она была для него всем. Как только он садился за свой стол, его душа уносилась в тягостных и бесплодных мечтаниях. Он пытался, как это обыкновенно делается, пересоздать прошлое. Если бы Лотта была свободна… Если бы Кестнер не был так добр, так достоин уважения… Если бы он сам был менее честен… Если бы у него хватило мужества остаться… Или мужества исчезнуть совершенно и уничтожить вместе со своей жизнью все мучавшие его образы…
Он повесил над своей кроватью силуэт Лотты, вырезанный из черной бумаги ярмарочным художником, и смотрел на это изображение с благоговением маньяка. Каждый вечер, прежде чем лечь спать, он целовал его и говорил: «Лотта, позволишь ли ты взять мне одну из твоих булавок?» Часто при наступлении темноты он садился перед портретом и вел вполголоса длинные беседы с потерянной для него подругой. Эти поступки, сперва естественные и непосредственные, превратились через несколько дней в пустые и печальные обряды, но в их исполнении он находил некоторое облегчение своей душевной тревоги. Этот силуэт, скверно сделанный и даже смешной, стал для него алтарем.
Почти каждый день он писал Кестнеру и передавал через него нежные послания Шарлотте. Он сохранял, говоря о своей любви, полушутливый, полутрагический тон, усвоенный им в Вецларе, потому что только таким образом он мог выражать, не оскорбляя Кестнера, волновавшие его чувства.
«Мы говорили, — писал он, — о том, что может происходить за облаками. Это мне неведомо, но зато я знаю, что наш Господь Бог должно быть весьма равнодушное существо, если он мог оставить вам Лотту».
В другой раз: «Я не снился Лотте? Я очень обижен, я хочу, чтобы она видела меня во сне этой же ночью и ничего бы вам об этом не сказала».
Иногда им овладевали досада и гордость: «Я не напишу вам раньше, чем буду иметь возможность объявить Лотте, что меня любит другая, и притом сильно любит».
После некоторых попыток он должен был признать, что не в состоянии взяться за работу на интересовавшие его раньше темы. Писать о Лотте, написать произведение с Лоттой в роли героини — это было единственным, на что он чувствовал себя способным.
Но, несмотря на то, что он обладал многочисленными материалами, — его дневник, его воспоминания, его еще столь яркие ощущения, — он столкнулся с огромными трудностями. Сюжет был слишком скудный: молодой человек приезжает в город, влюбляется в девушку, обрученную с другим, и отступает перед затруднениями. Разве этого достаточно для книги? Почему герой уезжает? Все читательницы порицали бы его за это. Если бы он на самом деле любил, он бы не уехал. В действительности, Гёте уехал, потому что стремление к искусству, воля к творчеству оказались сильнее его любви. Но кто, кроме художника, понял бы это побуждение? Чем больше он об этом думал, тем банальнее и беднее казалась ему эта тема, тем неспособнее он себя чувствовал к ее обработке, тем сильнее становилось его отвращение ко всякой литературной работе.