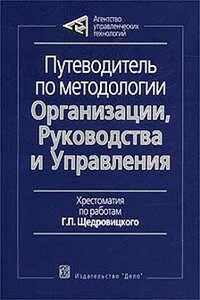Избранные труды | страница 40
Это порождает следующие возможные ошибки (и все они имеют свои примеры в истории формальной логики):
1) Исследуется языковое мышление, выделяются свойства, характерные для его структуры в целом, но приписываются они, в соответствии с характером модели, знаковой форме.
2) Исследуется знаковая форма и фактически берется как элемент структуры языкового мышления со стороны функциональных свойств, но свойства эти приписываются языковому мышлению в целом.
3) Знаковая форма, как и в предыдущем случае, исследуется в структуре языкового мышления и берется со стороны своих функциональных свойств; но эти свойства приписываются знаковой форме не как элементу структуры, а как особому изолированному явлению, т. е. фактически — как атрибутивные свойства материалу знаковой формы.
4) Анализируется содержание; свойства, характеризующие его, приписываются либо мышлению в целом, либо знаковой форме (с точки зрения модели, принятой в формальной логике, это одно и то же).
5) Знаковая форма рассматривается сама по себе, выделяются свойства, характеризующие ее как изолированное явление, — атрибутивные или строение материала, — но рассматриваются они как свойства языкового мышления в целом.
Каждая из этих ошибок, порожденная качественным расхождением между структурой объекта — мышления — и его формально-логической моделью, и все они вместе приводят к тому, что все без исключения эмпирические определения языкового мышления — как те, которые характеризуют его в целом, так и те, которые характеризуют либо одно содержание, либо одну форму, — приходится относить к одному и тому же одноплоскостному изображению и поэтому непосредственно соединять друг с другом. Но эти определения, как мы уже видели, крайне разнородны, они относятся к различным «предметам» и часто не согласуются одно с другим. Поэтому, чтобы объединить их, приходится создавать искусственные, непохожие на действительные связи и не намеренно до крайности усложнять строение актов отражения вообще и мысли в частности.