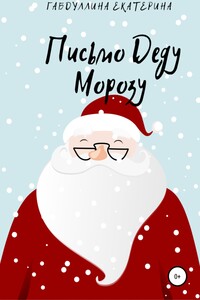Мой марафон | страница 25
Я сел и стал глядеть в окно, но за ним было темно, и я видел только своё отражение.
«Зачем я еду? — подумал я.— Играл бы сейчас с Генкой в шашки или книгу читал — у него много интересных, хоть он на два класса младше. А папа-то беспокоится... Надо, как приеду, сразу телеграмму дать. Телеграф ночью работает. Только я уж не пойду, пусть мама...»
Я отвернулся от своего отражения и увидел, что в конце вагона проверяют билеты. Я посмотрел на другую дверь — в неё тоже входил контролёр. Но тут поезд стал останавливаться, я вскочил и пошёл к выходу.
— Ваши...— сказал контролёр.
— Мне домой,— сказал я.
— Ну, домой, так беги, пока не догнал.
Я вышел и решил пройти вагона на два вперёд — там уж не проверяют. Когда я подошёл к двери, она зашипела и захлопнулась. Электричка опять противно гуднула и уехала. Я чуть не заплакал: сегодня все, как нарочно, как будто сговорились — и Генка со своим дурацким спором, и этот белобрысый на велосипеде, и папа... и контролёры.
На перроне было почти темно — так что, если б я и плакал, всё равно не видно.
Сколько я прождал, не знаю. Наверно, я заснул на скамейке и проснулся оттого, что на меня кто-то светил. Это был прожектор электрички. Он приближался, и казалось, что фонари на перроне постепенно тускнеют и тухнут, как свет в зрительном зале. Но электричка пришла из города, и, когда она уехала, я опять заснул. Может, я пропустил несколько поездов — не знаю, но один раз проснулся и увидел, что передо мной стоит поезд. Я вскочил в него до того, как двери зашипели, прошёл в вагон и сел. Спать уже расхотелось. Я глядел в окно на самого себя и думал, что, если опять придёт контролёр, пусть делает что хочет — ни за какие деньги не выйду. Хоть на пол лягу! Но всё равно сидеть было неспокойно — хуже, чем когда ждёшь, что к доске вызовут. В город мы приехали в четверть двенадцатого. А мне ещё ехать на другой конец. Двумя автобусами.
Хорошо, что они без кондуктора. И то мне водитель один раз сказал: «Вошедший мальчик, заплати за проезд или сойди». И даже дверь открыл, чтобы я сошёл. Но я на другом доехал — где народу больше. В общем, дома я был после того, как гимн сыграли. Дверь мне открыл папа. Когда он успел приехать?! Папа не сказал ни слова, только ходил из угла в угол. И мама молчала.
На следующий день было то же самое: папа и мама со мной не разговаривали. Потом мама простила и даже несколько раз опять назвала меня «Пушистый», но папа еще дня два молчал. А если и открывал рот, то только для того, чтобы сказать, что я эгоист, самолюбивый, обидчивый, думаю только о себе...