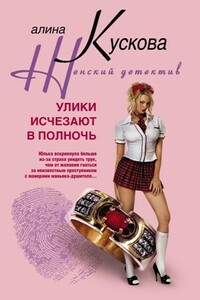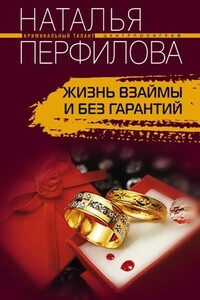Следы на карте | страница 32
Акбар постоял на своем опустевшем дворе, засыпанном длинными желтыми листьями плакучей ивы, подпер двери кибитки палкой, осмотрел еще раз родное гнездо и тихо пошел в крепость к аскарам. Больше ему идти было некуда. А здесь Акбара ждала большая радость. В доме Караишана открылся интернат. Сюда уже собрали сирот из соседних кишлаков. Акбар поселился в интернате и с первого дня стал посещать занятия. С аскарами и геологами мальчик связи не порывал. Почти каждый день бывал в крепости. О поступке Шариф-ака ему никто не напоминал, как будто ничего не произошло. За лето Акбар сильно вырос, окреп, загорел. Степан-ака не мог налюбоваться на своего крестника и от души радовался тому, что Акбар теперь по-настоящему учится.
Лежа в чистой интернатской постели, Акбар с улыбкой вспоминал свой страх, который он испытал в ту ночь, когда аскары заняли Чашмаи-поён. А получилось так, что с приходом красноармейцев и установлением в Чашмаи-поён Советской власти в жизни Акбара каждый день стали происходить какие-то новые приятные перемены. Горный кишлак казалось проснулся от векового сна.
Незнакомые, странно одетые люди с ружьями не ругали, не гнали оборванного подростка-чабана, а улыбались ему, ласкали его, чем могли угощали, и все это делалось искренне, как будто Акбар был их родным сыном. Чужой язык тоже не напугал мальчика, а обрадовал его, потому что первыми словами, которые он выучил, были «хлеб» — и он его впервые в жизни поел, «сахар» —и его он тоже впервые в жизни попробовал, «рубашка» — и он одел чистую рубашку. Русский язык входил в сознание ребенка свободно и радостно, потому что познание каждого нового слова приносило Акбару счастье и радость. Карандаш, книга, бумага — эти желанные для ребенка слова он узнал впервые по-русски.
Выучив русские буквы, Акбар стал читать все подряд, что видел перед собой. Лозунги в крепости, вывески на кишлачных учреждениях, непонятные заголовки в газетах: «Гримасы Нэпа», «Ликвидируем ножницы», «Ударим по бескультурью».
Степан-ака, русский крестьянин, рязанский бедняк, рассказами о России, о дальних городах заинтересовал подростка.
Если раньше мысли Акбара крутились около лепешки, чая, отары, а мир его был ограничен кишлаком и горой Хирс, на которой он пас овец, то сейчас о чем бы он ни думал, у него возникал вопрос «а что дальше?»
Представление о необъятности мира окончательно укрепилось у Акбара после того, как он побывал с Портнягиным на Дарвазе. Теперь мальчик знал, что и за Дарвазом стоят бесконечные хребты. Миру нет конца и края. По ту сторону советской границы живут буржуи. Буржуи представлялись ему на одно лицо, в виде Караишана. Злые, бородатые, в чалмах. Сидят на подушках и едят нишалло и печак (Нишалло и печак — национальные сладости). Теперь мальчику хотелось узнать и повидать все. На всю жизнь запомнился ему первый урок в интернате. Муаллим попросил ребят помочь повесить на стену большую географическую карту. Толстая бумага, подклеенная марлей, резко и неприятно пахла клеем. Но когда Акбар сел на свое место и взглянул на карту, его заворожили голубые просторы морей и океанов, синие жилы рек, коричневые извивы гор. От карты повеяло чем-то волнующе новым, необыкновенным, захватывающим. Такое же неповторимое чувство открытия нового Акбар испытал, когда Степан-ака год назад подарил ему два карандаша. Мальчик долго разглядывал и нюхал их, пытаясь представить, из какого необыкновенного мира попали в горы эти блестящие запашистые предметы. Какие волшебные руки сделали их? Среди хаотического нагромождения скал, серых бесформенных камней, неуклюжих кибиток, правильные красные шестигранники карандашей казались мальчику произведениями высокого искусства. Эти карандаши до сих пор хранились у Акбара в пещере Рошткала, как самые драгоценные вещи.