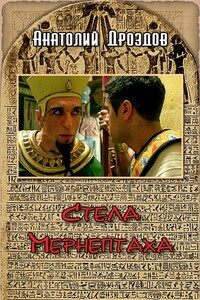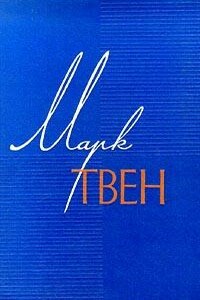Семейная книга | страница 105
— Мыло? Лезвия?
Ему говорили — спасибо, не нужно.
— Зубные щетки, чулки?
— Спасибо, не нужно.
— Головные булавки?
— Нет!
— Туалетная бумага?
Мы захлопывали перед ним дверь. С тех пор он приходил дважды в месяц, звонил, произносил свой текст, дверь захлопывалась, и жизнь возвращалась в свое обычное русло. Однажды, движимый гуманитарными побуждениями, я пытался дать ему несколько монет, но он запротестовал.
— Я не нищий, господин! — бросил он, буравя меня суровым взглядом.
Позавчера он снова появился со своим чемоданчиком:
— Мыло? Лезвия?
Меня захлестнула волна добродетельности:
— Ладно, дайте мне лезвия.
— Зубные щетки, — продолжал он свой текст, — чулки?
— Хорошо, дайте мне лезвия.
— Головные булавки?
— Вы что, не слышите, — разнервничался я, — мне нужны лезвия!
— Что?
— Лезвия!
На его лице отразилось неописуемое удивление:
— Почему?
— Лезвия, — настаивал я, — я покупаю у вас лезвия!
— Туалетная бумага, — продолжал бормотать торговец.
— Господи! — вскричал я в нетерпении и, вырвав у него из рук чемоданчик, открыл его. Он был абсолютно
—
Он вскипел.
— Никто ничего никогда не покупает, — кричал он, — так зачем же я должен все это таскать?
— Я понимаю, — успокоил его я, — но зачем же… тогда… вы ходите по квартирам?
— Но ведь жить-то с чего-то надо!
Он оставил меня и поднялся к Зелигам.
Баллада о трех парикмахерах
Парикмахерская, где я стригусь, возможно, не самая шикарная в Средиземноморье, но там есть все необходимое для успешной стрижки: три кресла, три раковины и звонок, подающий звук каждый раз, как открывается дверь. Когда я позвонил сюда впервые, меня встретил пожилой лысый парикмахер, указавший на пустое кресло:
— Пожалуйста!
Прежде чем отдаться в его руки, я пояснил, что мне нужно лишь немного подправить прическу, потому что я люблю волосы длинные и гладкие. Он кивнул в знак понимания и в четверть часа превратил меня в молодого американского моряка с короткой прической и песней на устах.
Совершив свою палаческую акцию, лысый парикмахер намекнул, что он здесь не начальник, получил соответствующие чаевые, и мы расстались. Я не затаил на него обиды, ибо понимал, что он уничтожил мои волосы в силу психологических причин. Я сразу догадался, что его зовут Гриншпан.
* * *
Через два месяца, когда ко мне частично вернулся человеческий облик, я вновь позвонил в парикмахерскую. На этот раз Гриншпан был занят осуществлением постоянной завивки, однако второй парикмахер — худощавый и тяжело вооруженный очками, стоя у свободного кресла, сказал: