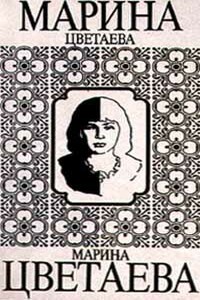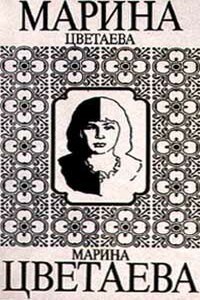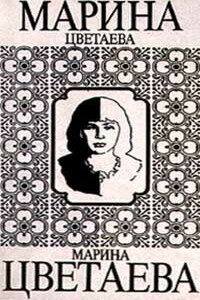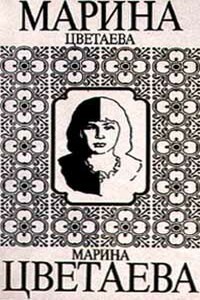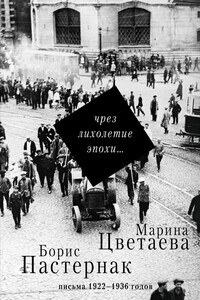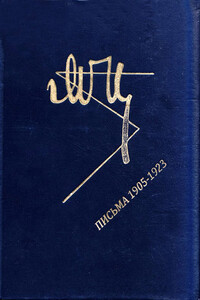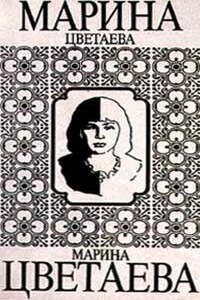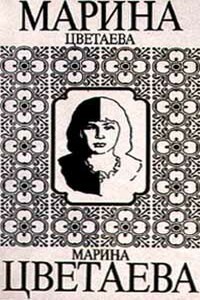Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы | страница 22
Эти полчаса Гоголя у камина больше сделали для добра и против искусства, чем вся долголетняя проповедь Толстого.
Потому что здесь дело, наглядное дело рук, то движение руки, которого мы все жаждем и которого не перевесит ни одно «душевное движение».
Может быть, мы бы второй частью «Мертвых Душ» и не соблазнились. Достоверно — им бы радовались. Но наша та бы радость им ничто перед нашей этой радостью Гоголю, который из любви к нашим живым душам свои Мертвые — сжег. На огне собственной совести.
Те были написаны чернилами.
Эти — в нас — огнем.
Искусство без искуса
Но есть в самом лоне искусства и одновременно на высотах его вещи, о которых хочется сказать: «Это уже не искусство. Это больше, чем искусство». Всякий такие знал.
Примета таких вещей — их действенность при недостаточности средств, недостаточности, которую мы бы ни за что в мире не променяли бы ни на какие достатки и избытки и о которой вспоминаем только, когда пытаемся установить: как это сделано? (Подход сам по себе несостоятельный, ибо в каждой рожденной вещи концы скрыты.)
Еще не искусство, но уже больше, чем искусство.
Такие вещи часто принадлежат перу женщин, детей, самоучек — малых мира сего. Такие вещи часто вообще никакому перу не принадлежат, ибо не записываются и сохраняются (пропадают) устно. Часто — единственные за жизнь. Часто — совсем первые. Часто — совсем последние.
Искусство без искуса.
Вот стихи четырехлетнего мальчика, долго не жившего.
(Ведно — детское и народное ведомо, здесь звучащее и как верно и как заведомо, заведомо-верно, там-от — нянькино обозначение дали.)
Вот последняя строчечка стихов семилетней девочки, никогда не ходившей и молящейся о том, чтобы ей встать. Стихи слышала раз, двадцать лет назад, и донесла только последнюю строку:
— Чтоб стоя я могла молиться!
А вот стихи монашенки Ново-Девичьего монастыря, — было много, перед смертью все сожгла, осталось одно, ныне живущее, только в моей памяти. Сообщаю его, как доброе дело.