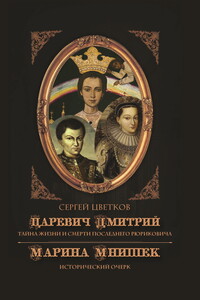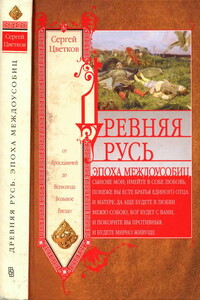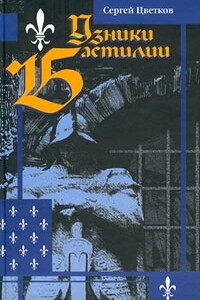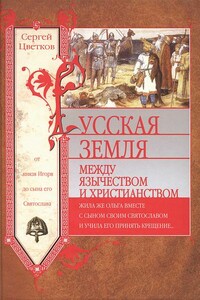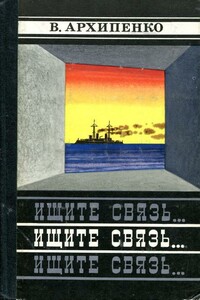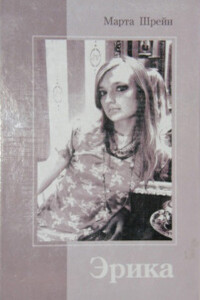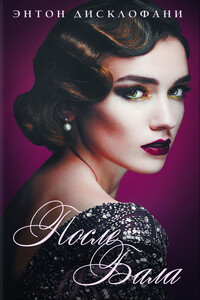Единожды предав | страница 25
Он зарекомендовал себя ярым противником унии, писал послания к православным общинам, убеждая крепко держаться веры отцов своих, не вступать в споры с более учеными иезуитами, не ходить на их беседы и по мере сил разоблачать их хитрости и заблуждения. Прямой полемики с иезуитами Курбский не вел, ревнуя прежде всего об общем укреплении православного сознания. Здесь и пригодилось его влечение к переводческой деятельности. Чтобы помочь православным братьям вернуться к первоистокам христианского вероучения, он начал переводить святоотеческие творения, напоминая, что «древние учителя наши в обоих научены и искусны, сиречь во внешних учениях философских и в священных писаниях». У него были большие переводческие планы: он собирался перевести великих отцов IV века. В помощь себе он собрал целый кружок переводчиков, но сделать успел сравнительно немного — перевел некоторые сочинения Златоуста, Дамаскина, Евсевия. Важнее была сама его попытка противопоставить православный идеал «польской барбарии».
В государственных делах в это время он почти не принимал участия. Зато не оставлял феодальных привычек: завладев Туличовом, имением шляхтича Красенского, всячески скрывался от королевского коморника Вольского, который с королевским указом о возвращении захваченного хозяину пропутешествовал по всем владениям Курбского, но так и не нашел князя. Более того, один из урядников Курбского пригрозил ему палкой, если он и впредь будет ездить по ковельским землям. Вольскому удалось встретиться с Курбским уже после того, как Сигизмунд умер. Князь почтил королевский указ следующими словами: «Ты, пан Вольский, ездишь ко мне с мертвыми листами, потому что когда помер король, то и все листы его померли. Когда приедешь ко мне с листами от живого короля, то такие листы я приму от тебя с честью. — И, помолчав, прибавил: — Да хотя бы ты и от живого короля приехал ко мне с листами, то я тебе и никому другому Туличова не уступлю». То есть Сигизмунд, как-никак его благодетель, имел в глазах Курбского цену лишь до тех пор, пока от него можно было чего-нибудь ожидать. Умерший король превращался для него в мертвого льва или, вернее, в дохлую собаку.
В 1579 году Курбский женился в третий раз, показав на деле, как он относится к столь горячо защищаемому им на словах Православию: по церковному учению брак при живой жене, хотя бы и разведенной, был недопустим. Его новой избранницей стала Александра, дочь покойного пана Семашка, старосты каменецкого. Она была не так богата и родовита, как Мария Юрьевна, но с ней престарелый Курбский наконец обрел семейный покой. В духовном завещании он называет ее «женою милой» и говорит, что она оказывала ему доброхотные услуги, когда он был здоров, а в болезни усердно и искренне ухаживала за ним, прилагая большие старания о поправлении его здоровья с немалыми для себя издержками. Александра родила ему двоих детей — Марину и Дмитрия.