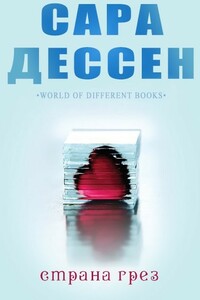Animal triste | страница 70
Учиться Франц поехал в Тюбинген, а в Ульм возвращался только по выходным. Отец умер от инфаркта вскоре после того, как ему исполнилось шестьдесят.
— Я был бы рад спросить у него, не пожалел ли он о своем решении.
— В жизни можно пропустить все, кроме любви, — заметила я.
— Значит, моя мать пропустила все, — подтвердил Франц. — К концу жизни она стала жесткой и завистливой. А он, может, и был счастлив, но за ее счет.
— А если бы он не ушел, то счастлива за его счет была бы она. Но потом ты все-таки простил отца?
— Он умер, и мать умерла. Была война. Может, его жизнь закончилась на войне. Поэтому позже он смог начать другую. А у нее были дети.
— Хочу жить с тобой вместе, — говорю я Францу.
— Да, вот бы хорошо, — отвечает он.
Мы с Францем лежим среди хищных растений. Половина первого, Франц спрашивает, который час, и я говорю, что половина первого. Только мы договариваемся, что Франц придет ко мне в среду или в субботу, как сразу начинаем бояться, что в ту самую среду или субботу опять-таки наступит половина первого. С половины двенадцатого или с двенадцати мы оба только и думаем о неизбежном, затем в темноте звучит осторожная его фраза: «Скоро пора к себе». С каждой новой неделей он произносит эти слова все тише и тише, вот уже просто шепчет, вот уже и шепот прерывается. И все-таки он говорит это всегда. Чем тише, чем испуганней, тем яростнее я нападаю: «Не уходи, сегодня не уходи, хоть раз не уходи!» Рыдаю, мечусь, запираю дверь. Но Франц уходит. Всегда. По коридору к двери он идет быстро, втянув голову в плечи, как при грозе.
Однажды он заснул. Надеюсь, молюсь, чтобы он не проснулся до завтрашнего утра, тоже пытаюсь уснуть, чтобы не пришлось его будить. Лежу тихо, едва дышу, но тут он все-таки спрашивает, который час, и я отвечаю, что половина первого.
Неумолимая твердость, с какой Франц в половине первого отрывал свое тело от моего, одевался, набивал трубку — он курил ее в машине, чтобы истребить сохранившийся мой запах табачным дымом, — эта твердость всякий раз повергала меня в состояние яростной беспомощности. Только одна у меня была мысль: как мне избавиться от этого моего положения, я больше не хочу оставаться одна. «Завоевать тебя иль умереть». Теперь уже не помню, что я тогда только думала, а что по-настоящему делала. Если вовремя не остановиться, то вспомнятся события, о которых не хочется и думать. Многое так ясно стоит у меня перед глазами, что нельзя усомниться в достоверности происшедшего, но ведь это невозможно! Не могла я при съезде с автобана на Хеннигсдорф врезаться в опору моста, хотя точно помню: было. Осенью, когда только — только стемнело. Дорога пуста. Хеннигсдорф — тысяча метров. Из Хеннигсдорфа 17 июня 1953 года тысячи бастующих литейщиков двинулись на Берлин. Жители Панкова рассказывают, что асфальтовое покрытие на шоссе 96 начало вибрировать от их шага, как только они дошли до Ораниенбурга. Я нажала на газ и с открытыми глазами врезалась в правую опору моста.