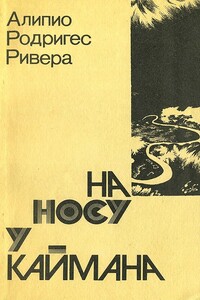Animal triste | страница 39
Опытный человек любит то, что у него не отнимется. Купит собаку — и любит. Та подохнет — купит новую и опять любит. А я поступила еще проще: пока не встретила Франца, любила вечного брахиозавра.
Мы с Францем не лежим среди хищных растений. Мы сидим друг против друга за узким столиком у окна, между нами натюрморт, коего составляющие закуплены мною к приходу Франца в лавке деликатесов: ветчина, печеночный паштет, дыня, виноград, сыр. Я никогда не готовлю специально для Франца, считая, что готовить для любовника — полное неприличие. Отчего я считаю приличным ходить за покупками и накрывать на стол — сама не знаю, но разницу ощущаю весьма отчетливо. Франц — он входит в состав комиссии, призванной решать вопрос о дальнейшей судьбе музея, — рассказывает, что о нашем и, следовательно, о личном моем будущем волноваться не стоит, поскольку музей, вероятно, всего лишь передадут в другое ведомство. Сейчас мне кажется, что тогда я вообще всерьез не понимала опасности, грозившей музею, брахиозавру и мне самой. Только разговор с Францем, эти его слова и воспоминание, что он тогда мне пытался нечто сказать наперед, — только это и отыскивается в моей памяти, словно она — древняя порода, где там и сям сохранились отпечатки, подобные следам птичьих лапок в саду Плиния Моуди.
Франц хвалит сыр, но я не признаюсь, что всегда покупаю одни и те же три сорта, поскольку выучила пока лишь их названия.
— Теперь у нас не только одинаковые песни, но и одинаковые сыры, — замечаю я. А Франц на это сообщает, что вырос в очень скромных условиях и сам обеспечивал себя в годы учебы. Продавцом мороженого, сантехником, грузчиком мебели, истопником, почтальоном на телеграфе он уже побывал в жизни. Пока остальные ездили на каникулы или покупали первые машины, Франц вкалывал в ночную смену. Да и позже, уверяет он, роскошь была ему чужда. Франц купается в бедности своей юности, как другие купаются в достатке, покуда я не заявляю, что для себя ни за что не купила бы такого дорогого сыра, просто не хотела принимать его, Франца, хуже, чем он привык. Ненароком я вдруг вошла следом за Францем в ту дверь, за которой — в моем воображении — он так часто исчезает, чтобы потом появиться в мирной семейной обстановке: сидит за столом, перед ним тарелка бульона, в бульоне две — три клецки.
Остальное представляется мне скорее скудным: ни вина, ни французского мягкого сыра, ни винограда в неурочное время года — вместо этого кусок «гауды» с полки холодильника в супермаркете «Майер», или «Кайзер», или «Болле», а еще яблоки, — и все это вместе привлекает мой интерес к обстановке квартиры Франца, ведь куда-то должны быть вложены немалые его доходы, и если уж не в чувственные радости жизни, так, значит, в непреходящее, как называла Карин Людериц свою мебель в стиле бидермейер и тщательно подобранную посуду с луковичным орнаментом, должны быть вложены в будущее наследство, чья ценность увеличивается за счет одного только течения времени. И конечно, в квартиру, где Франц не «дома», а «у себя», куда он «к себе» от меня уходит.