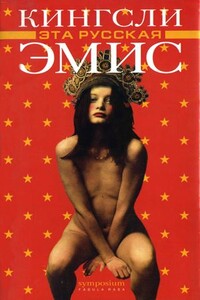Animal triste | страница 30
И еще сказал, будто мечтает отправиться в путешествие по муравейнику.
Для Франца, специалиста по перепончатокрылым, это желание вполне очевидно, хоть оно и доказывает, что ностальгическая тоска, исчерпав все возможности, начинает распространяться на невозможное. Не думаю, правда, что уже тогда знала об этом: я это поняла, когда Франц ушел.
В распоряжении Франца — не то что у меня, — имелись бесчисленные живые экземпляры исследуемых им видов. К любому муравьиному племени, о каком только становилось известно, он мог ездить хоть всю жизнь. Оснащенный специальными микроскопами и камерами, он мог наблюдать за становлением и гибелью сотен, нет, тысяч народностей и поколений, будто для них являлся богом. Он устраивал им вселенские потопы и землетрясения, ледниковые периоды и засуху, наслаждаясь их неистребимой волей к выживанию. Он отдавал их троны чужим королевам, спровоцировав тем самым революцию. Он целые народы лишил потомства, чтобы узнать, выживут ли они при таком условии. И всего этого ему было мало. Он хотел невозможного: стать таким же маленьким, как они, хотел фасеточными их глазами всматриваться в темноту подземных ходов, в самого себя и в нечто непостижимое, пугающее. На один-два дня он хотел бы стать теми, о которых знал все, кроме самого главного: кроме закона, заставляющего их делать то, что они делают.
Год, когда умер Эмиль, был годом Свободы, по крайней мере позже принято было так его именовать в газетах и официальных выступлениях. Да и те, кто в частных разговорах не стыдился патетики, поминали порой год Свободы; и если то, что подобно ветру отделяет — легкое от тяжелого, шаткое от прочного и зыбкое от укорененного, — если это и есть свобода, значит, и год был ее. Тогда казалось, ничто не останется, как есть. Появились новые деньги, новые паспорта, новые власти, новые законы, новые формы у полицейских, новые марки у почты, новые владельцы, то есть по сути старые владельцы, которых лет на тридцать-сорок отстранили от владений; переименовывались улицы и города, сносились памятники и образовывались новые военные союзы государств.
Мне всего этого было мало. Я мечтала о чем-то сокрушительном, куда само собой вольются все почтовые марки, названия улиц и униформы, мечтала о прорыве в иное измерение: то ли о трагической перемене климата, то ли о потопе и иной катастрофе — короче, о том, что сильнее человека и его переменчивых устремлений. Ясное дело, ничего не произошло. Утром я выходила на улицу, чтобы ехать в музей, и у людей оказывался тот же цвет кожи, и говорили они на том же языке, и погода соответствовала сезону, а трамвай пусть и ходил под другим номером, но по тому же маршруту; позже хотя бы это изменилось, когда во всем городе вспороли покров и начали по последнему слову техники опутывать его проводами и канализационными трубами, когда целые районы оказались отрезаны от окружающего мира, поскольку туда забыли проложить подъездные пути.