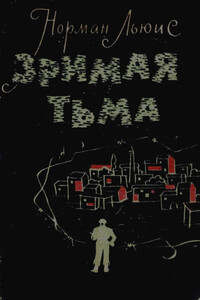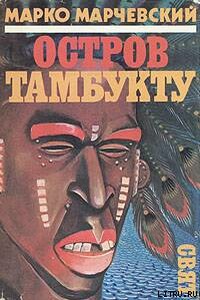ne_bud_duroi.ru | страница 125
Замкнув на тяжелый засов дверь, погасив свет, чтоб с улицы не было видно, что в библиотеке кто-то ночует, он сидел в методкабинете — бывшей хозяйской спальне — и, растирая глаза руками, пытался представить себе, как здесь все было. Николай Андреевич в этой спальне с молодой женой. Не всегда же он был стариком, в старомодном сюртуке, каким знал его Гриша. Здесь Николай Андреевич, наверное, познавал тот Космос, к которому сегодня ему, Гришке Карасину, позволили чуть прикоснуться, но не пустили дальше.
Подумав о старике, Гриша вспомнил про тайник в комнате няньки. С огарком свечи пробрался он в бывшую комнату Еремеевны. В тайнике за Брокгаузом и Ефроном лежал сверток в батистовом платке. Фотографии маленького Ильюшеньки на деревянной лошадке у рождественской елки. На том же фоне все семейство — сам Николай Андреевич, еще совсем не старый, но с чуть седоватыми бакенбардами, в кителе инженера связи, его супруга, с уложенной вокруг головы косой и удивительно печальными глазами, Ильюшенька у нее на коленях — и витой вензель в углу «Фотографическая мастерская братьев Бриль, 1896 год». Другой снимок: Илья, выросший и возмужавший, в военной форме, и дата — 1915 год. Полустершаяся записка: «Прости, Господом молю, прости меня! Но после гибели нашего мальчика мне незачем более жить».
Здесь же, рядом с фотографией и запиской, лежали дивной красоты кольцо, серьги с подвесками, колье с неведомыми сельскому мальчику голубыми камнями. Наследство аббата Фариа.
Кольцо пришлось продать на станции — иначе до Москвы было не добраться. В железнодорожной сутолоке у мальчика вытащили все с таким трудом скопленные матерью деньги, и только стариковский платок, оставшийся в кармане на том боку, на каком он спал, позволил двигаться дальше. Толстая цыганка, к которой отвела служащая станции, лениво взглянула на протянутое ей кольцо, и по вспыхнувшему недоброму блеску в глазах Гриша понял, что отдает вещь даже не за сотую долю истинной ее цены.
— Еще есть? — жадно спросила цыганка, которая только что вообще не собиралась ничего покупать. Теперь, почуяв невиданную добычу, она хотела забрать все, что можно.
— Не-ет, — неумело соврал Гриша, — все, что осталось от бабки. Остальное в войну проели…
— А это уцелело?
— Мать берегла, чтоб мне в Москву учиться уехать, — краснел юноша. Цыганка пугала. Но, вспомнив мамино поучение — любого человека надо пожалеть, понять, почему он вырос таким злым и жадным, а не добрым и щедрым, Гриша мысленно представил себе эту противную бабищу в засаленных юбках, от которых несло потом и еще чем-то противным, маленькой девочкой. Подкинули девочку в табор (при всех цыганских причиндалах и приговорах внешне тетка на цыганку не больно-то походила) и вырастили, навязав чуждые ее крови обычаи и условности. Вместо этой противной, грозящей обмануть, обобрать тетки перед глазами была крохотная девочка в кружевных пеленках, в плетеной корзинке подброшенная к цыганской кибитке.