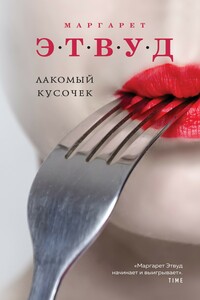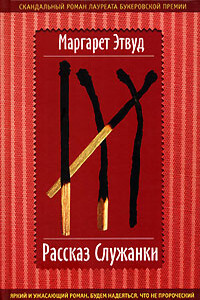Мадам Оракул | страница 104
Как и личность Пола, а он со временем изменился. Или я просто больше узнала о нем? Скажем, его отношение к моей девственности. Во-первых, он считал ее потерю исключительно своей виной — из-за чего теперь ему приходилось нести за меня ответственность, — а во-вторых, позором, навсегда лишавшим меня шансов стать женой, во всяком случае — его женой. То, что я не раскаивалась в содеянном, он считал признаком варварства. Всякий человек из-за Атлантического океана казался ему дикарем; да и англичане тоже вызывали сомнение — они живут слишком далеко на западе. В конце концов он начал злиться на меня: почему я не плачу, хоть я без конца повторяла, что, по-моему, это не повод для слез.
Далее — отношение к войне. Пол возлагал на евреев некую метафизическую вину за нее, а следовательно, и за то, что его семья лишилась фамильного замка.
— Но это смешно, — возмущалась я; как он может так думать? — Ты еще скажешь, что жертва сама виновата в изнасиловании или убитый — в том…
Он невозмутимо затягивался «Голуазом» и заявляя.
— Так и есть. Они сами навлекли на себя несчастье.
Я вспоминала о револьвере. Спросить про него, не выдав, что я рылась в вещах Пола, было невозможно; я уже понимала, что такого он не простит. Я начинала ощущать себя Евой Браун в бункере: как я оказалась рядом с этим сумасшедшим, в этой тюрьме, и как теперь отсюда выбираться? Ведь Пол исповедовал апокалиптический фатализм: цивилизация, по его мнению, рухнула либо вот-вот рухнет. Он считал, что скоро будет новая война, в сущности, даже надеялся на это. Он не ждал, что война что-то решит или улучшит, но хотел сражаться и совершать подвиги. Ему казалось, что во время Второй мировой он мало сопротивлялся; был слишком молод и не понимал, что надо остаться в том лесу и погибнуть вместе со всеми. Бежать и выжить было бесчестьем. Но только под «войной» Пол подразумевал не танки, бомбы и ракеты, нет — он видел себя на коне, с саблей, смело бросающимся навстречу опасности.
— Женщины такого не понимают, — говорил он, впиваясь зубами в мундштук. — Думают, жизнь — это дети и шитье.
— Я шить не умею, — напоминала я, но он отвечал:
— Научишься. Ты еще так молода, — и продолжал изрекать мрачные пророчества.
Я цитировала чьи-то призывы к надежде. Тщетно; он лишь кривовато улыбался и говорил:
— Вы, американцы, такие наивные, у вас нет истории. — Я уже перестала объяснять, что я не американка. — Это ведь одно и то же, правда? — заявлял он. — Какая разница, какой истории кому недостает.