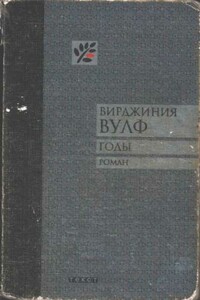Комната Джейкоба | страница 47
Одним словом, наблюдатель захлебывается от впечатлений. Правда, чтобы не дать нам потонуть в хаосе, природа и общество, объединившись, придумали систему классификации, изумительную по своей простоте, — партер, ложи, амфитеатр, галерка. Углубления заполняются ежевечерне. Входить во всякие тонкости необязательно. Но главная трудность остается — надо выбирать. Потому что, хоть я и не испытываю никакого желания стать английской королевой — ну, разве что только на минутку, — я совсем не прочь посидеть с ней рядом, послушать, о чем сплетничает премьер-министр и что шепчет графиня, погружаясь в воспоминания о залах и садах; ведь массивные головы знати таят, наверное, какой-то только им понятный язык, иначе почему они столь непроницаемы? И потом, так интересно, отбросив свое собственное сознание, примерить на секунду какое-нибудь другое, чье угодно — стать доблестным мужем, который правит империей; перебирать в памяти во время пения Брангены отрывки из Софокла; или, когда пастух играет на дудочке, увидеть на одно мгновение мосты и акведуки. Но нет — надо выбирать. Нет и не было более жестокой необходимости! Необходимости, влекущей за собой большую боль, более неотвратимое несчастье, потому что куда ни сядешь, все равно умираешь в изгнании — как Уиттакер в меблированных комнатах, как леди Чарльз у себя в поместье.
Молодой человек с веллингтоновским профилем, который сидел в театре на месте за семь с половиной шиллингов, спустился, когда опера кончилась, по каменным ступенькам, как будто все еще силою музыки отделенный от остальных.
В полночь Джейкоб Фландерс услышал стук в дверь.
— Вот это да! — воскликнул он. — Тебя-то мне и нужно! — и без особых затруднений они отыскали те строчки, которые он весь день не мог найти; только это был не Вергилий, а Лукреций.
— Да, от этого он взовьется, — сказал Бонами, когда Джейкоб кончил читать. Джейкоб был возбужден. Он в первый раз прочитал вслух свою статью.
— Вот мерзавец, а! — произнес он, хватая, пожалуй, через край, но похвала вскружила ему голову. Профессор Бултил из Лидса издал пьесы Уичерли, нигде, однако, не указав, что он выбросил, обессмыслил или просто обозначил звездочками ряд неприличных слов и несколько неприличных выражений. Это преступление, говорил Джейкоб, это подлог, не что иное, как ханжество, свидетельство порочного ума и гнусной душонки. Приводились цитаты из Аристофана и Шекспира. Разоблачалась современная жизнь. Всячески обыгрывалось профессорское звание, а Лидс, как цитадель учености, с презрением высмеивался. Что здесь было примечательно — это абсолютная правота молодых людей, примечательно, поскольку, уже переписывая рукопись набело, Джейкоб понимал, что никто ее не напечатает, и, разумеется, она вернулась из «Фортнайтли», из «Контемпорари», из «Найнтинс сенчури», и тогда Джейкоб бросил ее в черный деревянный сундук, где у него лежали письма от матери, старые летние брюки и несколько писем с корнуолльским штемпелем. Над правдой захлопнулась крышка.