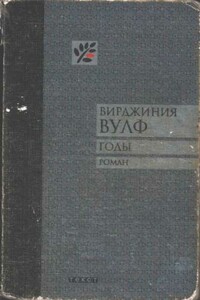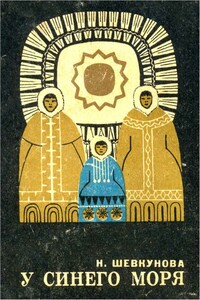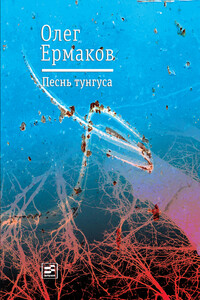Комната Джейкоба | страница 29
Сопвит тем временем, подойдя своей приплясывающей походкой от камина, стал нарезать шоколадный торт. До полуночи и позже у него в комнате засиживаются студенты, иногда человек двенадцать, иногда трое или четверо, но никто не встает, когда они приходят или уходят. Сопвит продолжает говорить. Говорить, говорить, говорить, как будто говорить можно обо всем — сама душа выскальзывает из уст тонкими серебряными дисками, которые растворяются в головах молодых людей, как серебро, как лунный свет. Ах, и далеко отсюда они будут это вспоминать, и в глубокой тоске оглядываться, и возвращаться, чтобы пополнить свои запасы.
— Ну и ну! А вот и Цыпочка! Ну, как дела, дорогой?
И входил бедный Цыпочка, неудачливый провинциал, фамилия которого на самом деле была Стенхаус, и, конечно, Сопвит тем, что называл его по-другому, сразу напоминал обо всем, обо всем, «чем мне вовек не стать» — хотя на следующий день, когда он покупал газету и садился в утренний поезд, все вчерашнее уже казалось ему каким-то нелепым, детским — и шоколадный торт, и молодые люди, и Сопвит, по обыкновению подводящий итоги; но нет, не все — он отправит сюда своего сына. Будет беречь каждый пенс, чтобы отправить сюда сына. Сопвит говорил, говорил, говорил, скручивая жесткие нити неловких высказываний — то, что вырвалось у студентов, — сплетая из них свой собственный аккуратный венок, нарядной стороной наружу, чтобы видна была яркая зелень, острые шипы, мужественность. Ему очень это нравилось. Сопвиту и впрямь можно было сказать все что угодно, но настанет время — и он, наверное, постареет, провалится, уйдет на дно, и тогда серебряные диски станут позвякивать глухо-глухо и надписи на них окажутся немножко простоватыми, а рисунок чересчур отчетливым, да и изображено будет всегда одно и то же — голова греческого мальчика. Но он будет его уважать, несмотря ни на что. Женщина, угадав в нем жреца, невольно запрезирала бы.
Коуэн, Эразмус Коуэн, потягивал свой портвейн в одиночестве или в обществе одного розового человечка, чья память хранила в точности тот же самый период времени, что и его собственная, потягивал портвейн, и рассказывал истории, и певуче читал наизусть Вергилия и Катулла по-латыни — словно язык был вином на его губах. Правда — найдет же такое! — что случилось бы, если бы сюда заглянул сам поэт? «Вот это я?» — спросил бы он, указывая на полного человека, чей мозг так или иначе представляет для нас Вергилия, хотя у него тело обжоры, а что касается рук, пчел и даже плуга — Коуэн ездит за границу с французским романом в кармане, с пледом на коленях и, вернувшись, счастлив, что он снова дома, в своей стихии и держит в руках маленькое хорошенькое зеркальце, в котором встает образ Вергилия, весь в расходящихся лучах веселых историй о преподавателях Тринити и красных отсветах портвейна. Но язык — вино на его губах. Нигде больше Вергилий не услышал бы ничего подобного. И хотя, прогуливаясь вдоль колледжей со стороны реки, мисс Амфелби напевает его стихи достаточно мелодично и к тому же точно, около моста Клэр она всегда задается вот каким вопросом: «А вдруг бы мне довелось его встретить, что тогда лучше надеть?» — и затем, сворачивая по улице, ведущей к Ньюнему