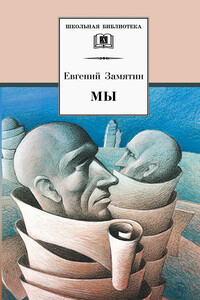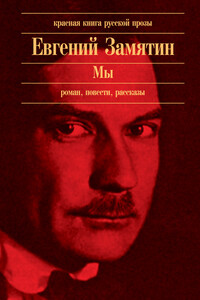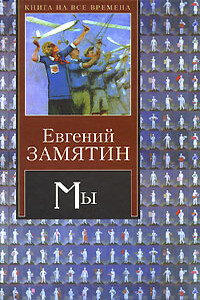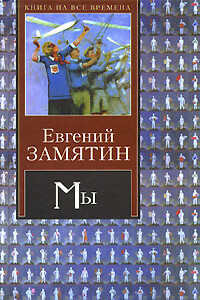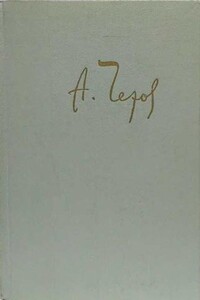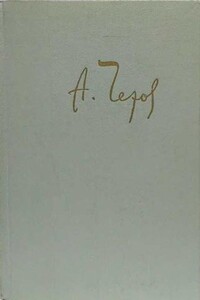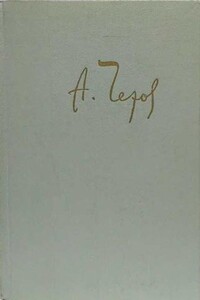Том 1. Уездное | страница 128
Потифорна ждала Костю с блинами. Мигом сварганила огонь в печке, первый, румяный, блин полила маслом, поставила Косте. Стал было Костя некаться: сыт уж, довольно.
— Господи-батюшка, уж теперь и лопать не хочет у матери у родной. Загордился уж, а? А не я ли тебя, поганца, и в люди-то, в чиновники вывела, а?
Не сговорить с маманей. С покорной улыбкой — Костя снова ел блины, без счету: кипели еще стихи в голове — до счету ли тут было?
А наутро — катался по полу Костя, помирал животом. На почту не пошел: куда уж. И все хуже да хуже.
К прощеному дню — Костя обрезался, совсем посинел. Потифорна на своем веку покойников без числа поглядела, глаз наметался. С базара пришла, увидала Костю такого — как взвоет. Да скорей за отцом Петром: хоть бы христианской кончиной-то помер Коська.
Пока Потифорна ходила — Костя лежал один. Умирало сердце. В окно — бабочкой нежной билась заря. Где-то звонили, над завалящим проулком колокол плыл — печальный, как лебедь. В какую-то секунду Костя понял, что конец и что надо — нужнее жизни — увидеть Глафиру и сказать ей все.
Потифорна вернулась одна, отца Петра не застала дома. И тотчас строгим шепотом Костя велел мамане сбегать к исправнику и позвать Глафиру.
Пошла Потифорна, как не пойти. Пошла, хоть и кропталась, утирая слезы: нет бы за доктором или за попом, а он за вертихвосткой за этой посылает!
И когда возле себя увидел Костя ее — Глафиру, единую, божескую, — сдвинулся в нем какой-то столетний камень, и забил из-под камня из самой глуби хрустальный ключ: всего напоил, утишил, исполнил. Тихонько взял Костя Глафирину сладкую руку:
— Теперь… я должен сказать… Помираю, блинов объелся. И теперь вот… Нет, не могу я про это сказать словесно!
От жалости вся сморщившись, Глафира сказала:
— Ну, что вы, Костя, зачем? Вы ведь знаете, что я вас тоже… зачем говорить…
Костя улыбнулся прозрачно-покорно: теперь — хорошо помереть. Туман… Туманом заволокло Глафиру, последней ушла она от Кости. Конец, тихо все, сладко — и если б только маманя не брызгала в лицо водой… Но Потифорна все брызгала: Костя открыл глаза еще раз…
Так бы, может, Костя и помер, да втесался тут отец Петр — с баклановкой со своей: баклановка у него была — ото всех болезней помога. В баклановке первое — конечно, водка, всем лекарствам мать; а в водку — красный сургуч толченый положен, да корень-калган, да перцу индейского красного же, да еще кой-чего, что берег в секрете отец Петр.