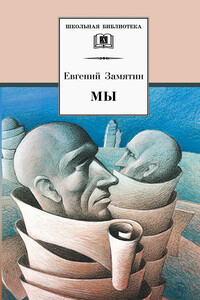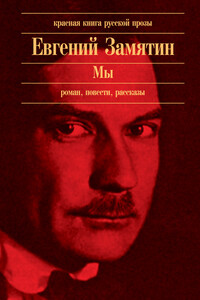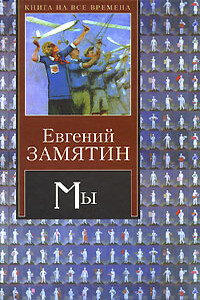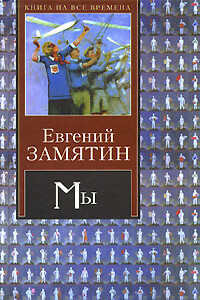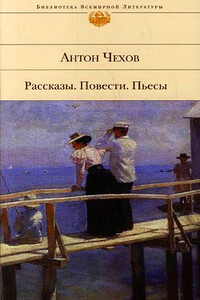Том 1. Уездное | страница 101
Наказала Василиса Петровна Сене в театр за ней зайти, часов в восемь. Нарядилась в сарафан, в кику, стояла перед зеркалом, усмехалась: то-то потеха будет, как сядет она в ложе да как начнут на нее со всех сторон глаза пялить!
И случилось же так, что в этот день встретил Сеня старого своего приятеля костромского — Сереньку.
— Серенька, да неуж — ты? Сколько лет, а? Господи…
Сидели в трактире, пили и молодость свою вспоминали:
— Эх, было времечко!
Старые аглицкие часы в трактире — бьют медленно, басом — ровно соборный костромской колокол — девять.
Услыхал — остолбенел Сеня. Как угорелый вскочил, побежал, ни слова Сереньке не молвил, не простился — побежал.
Примчался на Остоженку. Открыла ему девка-горничная дверь:
— Нету Василисы Петровны дома. И завтра не будет.
Домой не пошел Сеня. Неведомо где — пропадал ночь, вернулся только к утру. И такой пришел страшный, что думал Петр Петрович:
«Ну, пропал Сеня. Спятит с ума, ей-Богу, спятит».
Спятить не спятил. Но запил горькую — хоть святых вон неси. Каждый день ночью приходит — не в себе. Придет, тяжко сядет, голову на руки опустит…
— Петр Петрович! Прости, ну, понимаешь, прости! Прости, говорю.
— Да будет тебе, чего зря…
— Нет, ты меня прости! Ну вот, хочешь — на колени стану, хочешь?
И пока-то это уговорит его Петр Петрович, разденет да спать уложит. Ох, и зазнал уж он горя в те поры с Сеней: поди-ка, по кабакам побегай во всем околотке да разыщи его! А разыщешь — поди-ка его, милого друга, из-за столика вытащи. Нейдет — и шабаш. А тут еще и эти олухи царя небесного, которые с ним-то, дразнить его станут: «Что он тебе — мамаша аль супружница? Какое такое его полное право, — не ходи…»
Перестал Петр Петрович деньги давать Сене на пропой. А Сеня — что ж? Обошел Анисью-кухарку каким-то манером: разжалобилась Анисья, вынимает из сундука деньги, дает. Сопьется, ох, сопьется малый…
Пришла осень. И поди, как всякая московская осень была и слякоть, и мга сырая, и дождичек меленький. А мерещилось — всю осень один сплошной солнечный день был. И на улицах будто — и Пасха, и масленица вместе. Флаги, народ ходит, поют, и все между собою родные. И кричать хочется — кричать хочется во все горло — от радости, от шири, от удали.
Как-то в октябре пришел Петр Петрович на митинг в университет. Глядит — и глазам не верит: батюшки мои, да неужли ж правда? Стоит на кафедре Сеня, рука у него белым платком зачем-то повязана, глаза блестят, улыбается. И с толпой, со зверем этим, просто, как с приятелем, разговаривает.