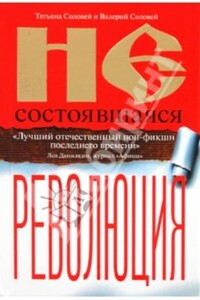Кровь и почва русской истории | страница 53
Конечно, это соображение не призвано элиминировать множество иных факторов и обстоятельств русской экспансии. Реализация архетипа русского пространства зависела от культурно-истрического контекста. Даже Сибирь, считающаяся залогом русского могущества и синонимом нашей необъятности, вплоть до XIX в. воспринималась не как собственно Россия, а как ее азиатская колония. Окончательное превращение Сибири в часть России– не в политико-административном, а в ментальном и социокультурном смыслах – произошло только при Советах.
Я лишь хочу подчеркнуть, что любые «объективные факторы» - экономика, институциональная структура, демографическая динамика, безземелье, уровень технологий - результируются в человеческих поступках, поведении людей в истории не напрямую, а проходя сложную цепь опосредований в человеческой психике. А эти опосредования формируются уже по законам самой психической деятельности: дотеореотические (обыденные) представления, а также идеи, ценностные ориентации и культурные модели выстраиваются вдоль силовых линий ментальности – архетипов.
Архетипы можно сравнить с осью, на которой вращается колесо истории: ось остается неподвижной, хотя колесо каждый раз оказывается в новом состоянии; но именно неподвижность оси обеспечивает движение колеса.
К слову, не только русские ощущали внутреннюю связь территории и ландшафта. Близким примером могут служить французы: хотя их колонизация Алжира носила массовый характер, а по историческим срокам совпадала с освоением русскими Средней Азии, они так и не стали считать Алжир частью Франции. А вот Эльзас и Лотарингия в массовом сознании всегда оставались французскими[89].
Продолжая поиск русских архетипов, отмечу, что в разнообразных интерпретациях и концепциях русской истории существует, пожалуй, единственный пункт всеобщего согласия, широкого научного консенсуса: признание исключительной роли государства (с максимально широким диапазоном оценок этой роли) в русской истории и отечественном бытии. Это значение настолько велико, бесспорно и исторически устойчиво, что известный политический психолог Елена Шестопал назвала отечественное общество «государство-центрическим» и заключила: «Государство и государственная власть нам (русским. – В.С.) совершенно необходимы не столько функционально, сколько психологически (курсив мой. – В.С.)»[90]. Это подводит нас к идее о государстве как некой константе русской ментальности.
Сразу надо пояснить, что имеется в виду не набивший оскомину стереотип о «врожденном» государственничестве русских, а захваченность, тематизированность отечественного сознания государством вообще - в его как положительных, так отрицательных коннотациях. В этом смысле государственноцентрическим оказывается даже знаменитый «бессмысленный и беспощадный» русский бунт, ведь он направлен против государства! Нельзя не согласиться с тем, что только прирожденные государственники способны предстать в облике государствоборцев[91].