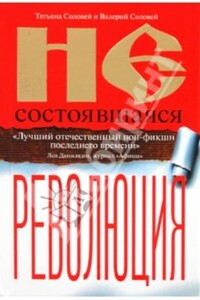Кровь и почва русской истории | страница 39
Как бы высоко не воспаряла культура, она в любом случае привязана к биологии – напрямую или через множество опосредований. Казалось бы, что дальше от биологии, чем язык, на котором мы говорим. Ан нет, у народов Европы дифференциация по генетическим локусам совпадает с языковыми границами[53], другими словами, биология и культура совпадают.
Биология – не просто фундамент социальности и культуры, это скорее их каркас, который вплетен в само здание и без которого оно рухнет. В каком-то смысле биологическое и есть социальное, «кровь» тождественна «почве». Это утверждение следует понимать двояко: во-первых, человеческое тело как таковое выступает исходным пунктом культуры и социальности, оно творит их вокруг себя; во-вторых, многие нормы и модели социального поведения носят врожденный характер, то есть по своей сути принадлежат биологии, а не культуре.
Начну с первого тезиса, который принадлежит не грубому расистскому, а рафинированному постмодернистскому дискурсу. Проникнутый стремлением релятивизировать человеческое тело, этот дискурс, по иронии судьбы, онтологизировал его. Культурно-историческая обусловленность восприятия тела не в состоянии элиминировать того, что оно оказывается предельной, нередуцируемой величиной. Постмодернизм вернул тело в человеческую историю и натурализовал гуманитарный дискурс.
Понятие «биополитики» было введено не каким-нибудь расоведом III Рейха, а Мишелем Фуко, который весьма убедительно доказывал, что «для современных обществ, с тех пор как они перешагнули биологический порог современности, в их политических стратегия речь идет о выживании самого вида. Эти стратегии, от регулирования уровня рождаемости через складывание государственной задачи жизнеобеспечения вплоть до борьбы за колониальные ресурсы или, например, за “жизненное пространство на Востоке”, не только руководствуются гегемонистскими и обладающими властью над действительностью образами тела, которые относятся к важнейшим культурным параметрам Нового времени, - они сами занимают центральное место в так называемой “большой” истории» [54]. Итак, по мысли Фуко, стержень истории составляет проблема «выживания вида», то есть биология, хотя и облекающаяся в разнообразные культурные одежды.
Незаурядная заслуга постмодернизма также в том, что он реабилитировал значение телесности как важного (нередко – основополагающего) фактора личной и групповой идентичности. «…Коллективные “идентичности” людей часто основаны на проведении границы на основе телесных различий, служащих линией исключения: анатомические различия половых органов, различия в цвете кожи и т.д. […] …трудно представить себе представления о “я” и “мы”, не исходящие всякий раз из сравнения тел»[55]. Вполне очевидно, что чем больше отличие в телах, тем выше возможность антропологической негативизации и минимизации Другого, превращения его во враждебного чужака. «Радикальное отличие всегда таит в себе смертельный риск» - эта формула не выдумана, а заложена в человеческих генах.