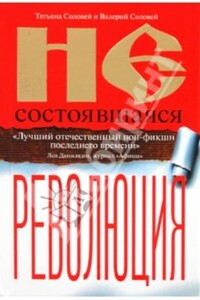Кровь и почва русской истории | страница 30
И уж совершенным абсурдом прозвучит допущение, что сам факт проведения границ генерирует этничность из ничего - exnihilonihil. Допустить противоположное, значит занять креационистскую позицию, которую вряд ли стоит всерьез обсуждать в научном контексте.
Столь же «убедительна» концепция возникновения этничности вследствие путешествия индивидуальной/коллективной идентичности по набору доступных в данных момент культурных конфигураций или систем[35]. Здесь терминологический блеск прикрывает нищету интеллекта и отсутствие хотя бы элементарной логики. Если те или иные «культурные конфигурации или системы» приобретают этнический характер, значит ли это, что культура хотя бы в части своей имманентно этнична? Если же этническую окраску «конфигурациям и системам» придает «дрейфующая идентичность», то в какой своей части этнична индивидуальная/коллективная идентичность? Если неэтничны ни культура, ни идентичность, то почему в результате их взаимодействия возникает совершенно новое, пусть даже ситуативное, этническое качество? Любые формы взаимодействия культуры и идентичности «не тянут» на статус обладающей эмерджентным свойством (то есть способной порождать новую функцию, новое качество) системы.
Интеллектуальный стиль и концептуальное «богатство» постмодернистской этнологии можно описать двумя хлесткими фразами: логика железная, да точка отправления дурацкая (или откровенно сфальсифицированная); релятивизм – диалектика дураков.
Вне зависимости от парадигмальной принадлежности социологические концепции этноса/этничности оказалась перед общей неприятной дилеммой: оценить собственную теоретическую неспособность «ухватить» этничность как результат отсутствия объекта исследования – этноса/этничности (как бы они при этом не понимались – субстанциально или как реальность отношений), или же признать неадекватность теоретической концептуализации природы изучаемого явления.
Первая возможность была доведена до логического завершения призывами «забыть о нации», устранив само это слово из «языка науки и политики», и организовать «реквием по этносу»[36]. Однако обыденное и научное сознание оказывает непреодолимое сопротивление попытке доказать несуществование того, что не просто самоочевидно, но и капитально в своей самоочевидности. В этом смысле приведенная во введении мысль об этничности как явлении, проявляющемся повсюду, хотя его невозможно методологически «уловить», отражает господствующее в научной среде умонастроение.