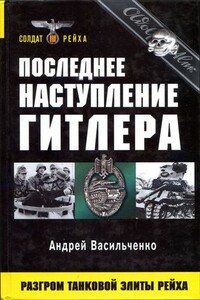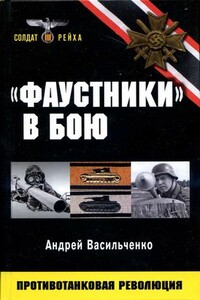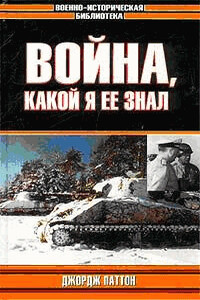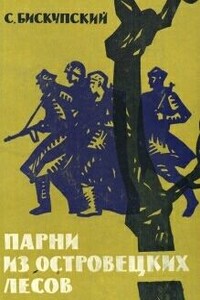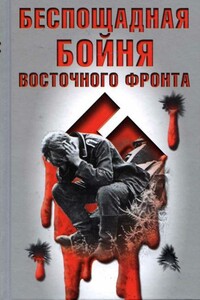«Окопная правда» Вермахта | страница 25
Такие случаи были отнюдь не единичны, и дело не ограничивалось драками между простыми солдатами. Карстенс однажды видел, как инструктор из унтер-офицеров изо всех сил ударил новобранца о дверь. Несчастная жертва потеряла сознание. Вскоре солдата демобилизовали. Наконец, в качестве еще одного примера жестокости (на этот раз психологической) Карстенс вспомнил случай, когда солдат из их учебного отряда, направленный в качестве посыльного в Берлин, погиб в автокатастрофе, а последующие действия их гауптмана граничили с патологической бесчувственностью. Товарищам погибшего запретили присутствовать на похоронах, и вместо этого им пришлось слушать, как гауптман оплакивал не гибель их друга, а потерю машины! Этот пример бесчеловечной черствости оставил в душе Карстенса след, который не смогли стереть годы.
Точно так же Ганс-Вернер Вольтерсдорф говорил, что у него «не было времени на раболепных громил, которые стремились командовать, потому что не обладали реальной властью… Всегда найдутся те, кто будет полагаться на притворство или какую-нибудь несправедливость, интриги или демонстрацию силы, чтобы попытаться компенсировать то, чего им не хватает». Вольтерсдорфу особенно запомнился один «умный парень с сильным характером», которого безжалостно подвергали подобным издевательствам. Тем не менее юноша не только выдержал все это, но и позднее, уже на фронте, «разорвал направление в отпуск после ранения, чтобы оказаться на передовой». Получив от командира приказ совершить «смелый рейд»… он провел свою группу через минное поле, прикрывавшее русские окопы, бесшумно избавился от русских часовых, взорвал склад боеприпасов и навел такую панику, что ему удалось вместе со всей группой вернуться обратно через русские окопы. На пути туда он шел первым, на обратном пути — последним. Он привел своих солдат целыми и невредимыми. Но тут, когда казалось, что все закончилось, он подорвался на мине… Мало какая история, — заключил Вольтерсдорф, — печалила меня так, как эта».
Ги Сайер отмечал, что во время изнурительных тренировок им и его товарищами двигало не только желание добиться успеха, но и глубочайший страх перед «штрафным батальоном». Сайер с тревогой вспоминал о «стоявшем во дворе навесе — крыше на четырех опорах, предназначенной для тех, кто еще сохранял в себе дух индивидуализма или неповиновения»:
«Между собой мы называли это строение Die ffundehu Dtte (собачья конура)… Наказанные солдаты наравне со всеми проводили тридцать шесть часов в активной подготовке. Однако после этого их вели в Оконуру и приковывали к тяжелой горизонтальной балке, сцепив руки за спиной. Все восемь часов, отведенные на отдых, они проводили в этом положении… Суп им приносили в больших мисках на восемь человек, из которых они вынуждены были лакать, словно собаки… После двух-трех сроков в этом сарае несчастная жертва… впадала в кому, которая милосердно приносила конец мучениям… Рассказывали ужасную историю о парне по фамилии Кнутке, который побывал в конуре шесть раз, но все равно отказывался… выходить на занятия с отделением. В конце концов, его, умирающего, отнесли под дерево и пристрелили. Вот до чего доводит конура, говорили вокруг. Нужно держаться от нее подальше. Поэтому, несмотря на стоны, все продолжали маршировать».