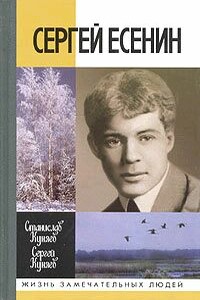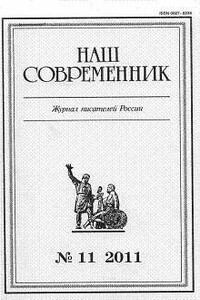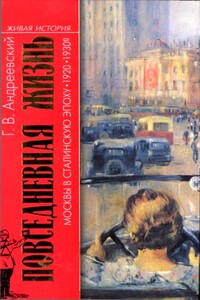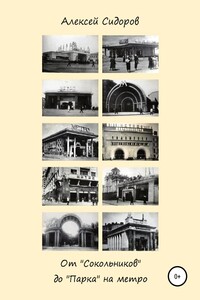«Ты, жгучий отпрыск Аввакума...» | страница 10
Клюев читал стихи из „Львиного хлеба“, которые потом он объединил в цикл „Песни на крови“.
Каждая строчка огненной искрой пробивала переполненный зал. А финальная строфа, пророчащая о новом небе и новой земле, о начале новой истории, довела его до исступления.
И здесь воочию обозначилась пропасть между нынешним Клюевым и нынешним Есениным. Клюев от кошмара настоящего, опрокинутого в прошлое, в никонианскую эпоху, уходил к грядущим временам Воскресения мира… Есенин — весь был в кошмаре современности.
Клюев с опущенной головой слушал отчаянные есенинские выкрики в пространство.
(Эта „мертвячина“ потом и найдёт своё место в „Бесовской басне про Есенина“).
„Боже милостивый! Что ж он творит? Так и головы не снести. И сам на нож напорется…“
Дома Есенин просил ещё Клюева читать стихи. И Клюев читал, и собравшиеся вокруг женщины млели от восхищения, а потом, когда он уходил, ругмя ругали его: и обжора он (а они тут впроголодь живут), и ханжа, и подлец, и притворщик, и Есенину нашёптывает всякие юдофобские речи, разжигая в Серёже антисемитские настроения… Клюев, в самом деле, не скрывал своего отношения к происходящему. Рассказывал — кто и как допрашивал его во время ареста, что сажали его в тюрьму и держали в пыточной „пробковой камере“ угнездившиеся в ГПУ „жиды“, что вообще „жиды правят Россией“. „Клюев… тихо, как дьячок великим постом, что-то читает в церкви, — писала потом Анна Назарова, — соболезновал о России, о поэзии, о прочих вещах, погубленных большевиками и евреями. Говорилось это не прямо, а тонко и умно, так что он, невинный страдалец, как будто и не говорил ничего…“ Для Клюева ещё одна рана — невозможность толком поговорить с Есениным по душам. Девицы, как бы он любезно с ними ни обходился — чужие. И их враждебность к себе он ощущал буквально кожей. И всё же пытался вылить Есенину свою боль.