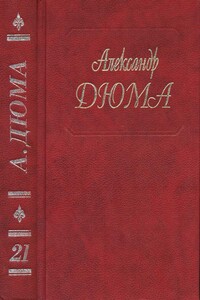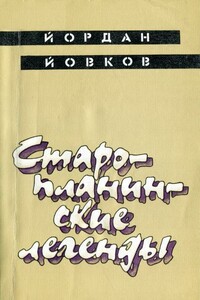Казак Иван Ильич Гаморкин. Бесхитростные заметки о нем, кума его, Кондрата Евграфовича Кудрявова | страница 62
— Глянь ты на меня! Друг сердечный! Глянь ты на меня Кондрашку, как я тут живу собакой паршивой, три дня неумываюсь, на полу сплю в подвале!
Едет он, ровно меня и нет совсем, ровно, не я, кум его, что Нюньку крестил — не я.
Понатужился я. Дурак, в толк не возьму, что картина это.
— Здрась-те! — кричу. — Наше вам!
Хоть бы что. Проезжает мимо, глазом не
моргнет. И такая у меня скука к горлу подступает. От, думаю, сейчас зареву, на старости лет. От, зареву. Рванулся я к нему совсем близко. Шарю по полотну руками, коня за ноги хватаю:
— Стойте, казаки!
Папахи на них нашенские — кудластые, кудластые — донские. Взвыл я… а тут меня и вывели.
Очнулся, Ахмед сбоку стоит.
— Будет, — говорит, — пойдем домой, насмотрелся я.
Дождик идет, моросит. По-о-ехал мой Иван Ильич. Жить мне после такой картины не хочется. Город кругом! Стою на тротуаре, а напротив магазин шляпный электрической вывеской мне мигает. Отвернулся я от модных картузов и побрел домой.
Вот почему — знаю я, что жив где-то кум мой, Гаморкин.
А не прошло с этого дня и двух недель — другое чудо.
Разнес хлеб по домам и иду к себе, опустив голову, в пекарню. Стоит у меня эта картина в мыслях и столкнуся, ну нос с носом с…
Нет, какой же случай!
Нос к носу с… Михаилом Александровичем Петухоем.
— Ты ли это, Александрович?
— Я, собственной персоной!
— Побожись!
— Лопни мои глаза и разрази меня гром на этом самом месте, и что-б мне, после этого, с него никуда не сойти, три дня ни соли, ни хлеба не есть и на коня не сесть.
— Стой! — обрадовался. — Ты! Откуда
и какими судьбами?
_ А такими — говорит и улыбается —
Кеть-меть, на горе ведметь. Как подошли, значит, мы с Иваном Ильичем к Черному морю.
Руками на него замахал.
— Молчи, молчи. Зайдем где нибудь выпить __ все-то ты мне и расскажешь поподробней.
Ну, думаю, вот и вести о Гаморкине, все-то я сейчас узнаю, как и что.
Зашли в кабачек, поставил я литр винца, расцеловались мы еще с Петухой и стал он мне повествовать.
А сперва чокнулись.
— Слава Богу, что мы казаки.
— Дошли мы до Черного моря, как сам ты, Евграфыч, знаешь, до самого Новорассейска. Ну, куда? Известно — мы с Ильичем на пароход, а нас обратно. Стоит дядя-доброволец с ружьем и нашивкой трехугольной на рукаве.
— Не для вас, — говорит, — катитесь колбасой!
— Что? — сказал Гаморкин. — Ка-ак?
— А так! Не для вас и все. Для вас другие суда придут, а эти — не для вас.
Врет, конечно, стерва. Стали мы ходить по бережку. Никто нас не берет, туда сунемся — „досвидания", сюда — „привет в Черкасском передавайте". Коней мы побросали, а они уцепились и за нами ходять — прогуливаются. Тоска смертная, неуёмная. Гаморкин зубами заскрежетал.