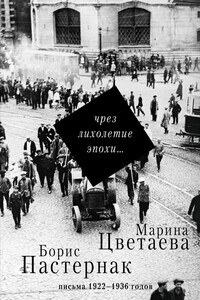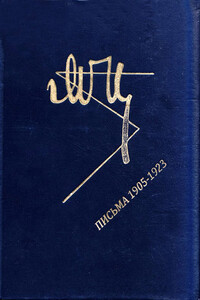Том 4. Книга 1. Воспоминания о современниках | страница 34
Так, если не в творчестве, то хоть в личности поэтессы, Брюсов в своих утверждениях касательно истоков женского творчества утвержден — был.
Выступление красного берета затягивается. Сидим с неугомонной Адалис в бетонной каморке, ждем судьбы (деньги). «Заплатят или нет?» — «Заплатят, но вот — сколько. Обещали по тридцати». — «Значит по десяти». — «Значит по три».
Новый звуковой обвал Вавилонской башни, — очевидно. Берет покидает пост. Вавилон валится, валится, валится… Крики, проникающие даже и в наш бетонный гроб:
— Красный дьявол! Красный дья-авол! Дья-а-вола!
Я к Адалис, испуганно: «Неужели это ее они так?» Та, смеясь:
«Да нет, это у нее стихи такие, прощание с публикой, коронный номер. Кончит — и конец. Идемте».
Застаем последний взмах малинового берета. Всé эффекты к концу! И еще один взмах (эффект) непредвиденный — широкий жест, коим поэтесса, проходя, во мгновение и на мгновение ока — чистосердечно, от избытка чувств — запахивает Брюсова в свою веселую полосатую широкошумную гостеприимную юбку.
Этот предельный жест кладет и предел вечеру. На эстраде, опоясанный девятью Музами — скашиваю для лада и склада одну из нас — «восемь девок, один я». Последние, уже животным воем, вызовы, ответные укороченные предстоящими верстами домой, поклоны, гром виноградной гроздью осыпающегося, расходящегося амфитеатра, барьер снят, зал к барьеру, эстрада в зал.
Итог дня: не тридцать, не десять, но и не три — девять. И цепкая ручка ивовой ручьёвой Мальвины, въевшаяся в стальную мою. Ножки 30-х годов, ошибившись столетием, не дождавшись кареты, не справляются с советской гололедицей, и приходится мне, за отсутствием более приятной опоры, направлять их по тротуарным глетчерам начала февраля Москвы 1921 года.
Вот и вся достоверность моих встреч с Брюсовым. — И только-то? — Да, жизнь меня достоверностями вообще не задаривает. Блока — два раза. Кузмина — раз, Сологуба — раз. Пастернака — много — пять, столько же — Маяковского, Ахматову — никогда, Гумилева — никогда.
С Вячеславом одна настоящая беседа за жизнь. (Были и везения, но перед горечью всего невзятого…)
Больших я в жизни всегда обходила, окружала, как планета планету. Прибавлять к их житейской и душевной обремененности еще гору своей любви? Ибо, если не для любви — для чего же встречаться? На другое есть книги. И если не гора (беру во всех ее измерениях) — то какая же любовь? В этой смеси бережения и гордости, в этом естественнейшем шаге назад при виде величия — разгадка к многим (не только моим, вообще людским, поэтому упоминаю) разминовениям.