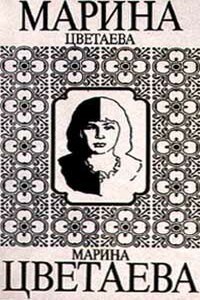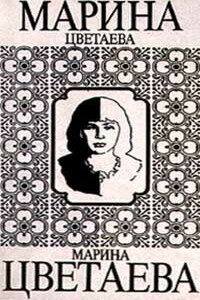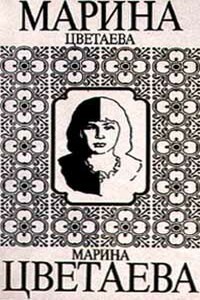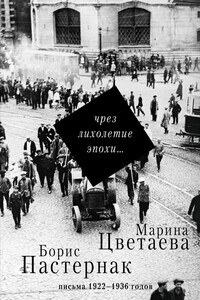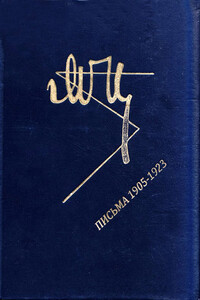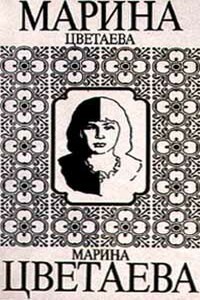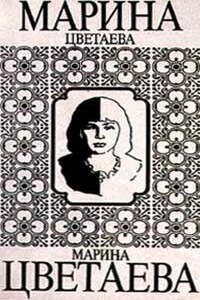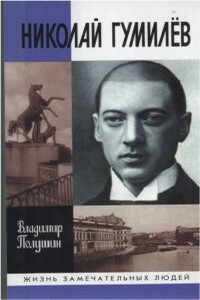Том 4. Книга 1. Воспоминания о современниках | страница 179
В «Мусагете» я, как Ася Тургенева, никогда ничего не говорила, только она от превосходства своего над всеми, я — всех над собой. Она — от торжествующей, я от непрерывно-ранимой гордости. Не говорила, конечно, и с ней, которую я с первой встречи ощутила «царицей здешних мест».
Каким чудом осуществилось наше сближение? Кто настоял? Думаю — никто, а нечто: простой голый факт, та срочная деловая необходимость, служащая нам несравненно больше чужой доброй воли и нашего собственного страстного желания, когда нужно — горы сводящая! В данном случае предполагавшееся издание «Мусагетом» моей второй книги и поручение Асе для нее обложки.
Помню, что первая пришла я — к ней. В какие-то переулочные снега. Кажется — на Арбат.
Из каких-то неосвещенных глубин на слабый ламповый исподлобный свет Ася в барсовой шкуре на плечах, в дыму «anglaises» и папиросы, кланяющаяся — исподлобья, руку жмущая по-мужски.
Прелесть ее была именно в этой смеси мужских, юношеских повадок, я бы даже сказала — мужской деловитости, с крайней лиричностью, девичеством, девчончеством черт и очертаний. Когда огромная женщина руку жмет по-мужски — одно, но — такой рукою! С гравюры! От такой руки — такое пожатье!
На диване старшая сестра Наташа, и вбег Тани, трепаной, розовой, гимназической и которую я в свой культ включила явно в придачу, для ровного счета, достоверно зная от моей Аси, учившейся с ней в гимназии, что она самая обыкновенная девчонка, без никакого ни отношения, ни интереса к литературе, читать совсем не любящая, и с которой моя Ася, несмотря ни на какие мои просьбы, не соглашалась дружить. «Очень нужно, дружи сама, что мне от ее тургеневства, только и говорит, что о пирогах и о грудных детях — как нáзло!» (Может быть, действительно — нáзло? Зная, что от нее ждут «поэзии»? Вернее же — просто настоящая четырнадцатилетняя девчонка, помещичья дочка, дитя природы.)
Водяная диванная гладь Наташи, самостоятельный гром Тани и зоркое безмолвие застывшей передо мной Аси — в барсовом пледе.
— Какая киса чудная!
— Барс.
— Барс, это с кистями на ушах?
— Рысь.
(Не поговоришь!) Оттянув к себе барсью полу, глажу, счастливая, что нашла себе безмолвное увлекательное занятие. И вдруг, со всей безудержностью настоящего откровения:
— Да вы сама, Ася, барс! Это вы с себя шкуру сняли: надели. Чудный смех, взблеск чудных глаз, — волшебная смена из «Цветов маленькой Иды» — хватая мою руку, другой с лампы колпак:
— А у вас какие? Ну, конечно, зеленые, я так и знала! Дитя символистической эпохи, ее героиня, что же для нее могло быть важней — цвета глаз? И что больше ценилось — зеленых, открытых Бальмонтом и канонизированных его последователями?