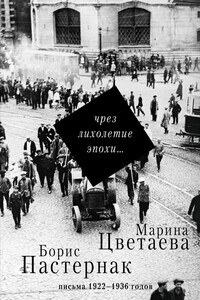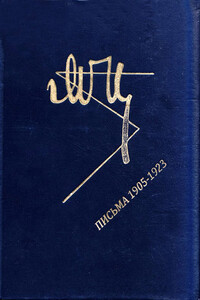Том 4. Книга 1. Воспоминания о современниках | страница 110
— Стоит умереть, чтобы быть погребенным здесь. Дома — чай, приветственный визг Али и Андрюши. Монашка пришла — с рубашками. Мандельштам шепотом:
— Почему она такая черная? Я, так же:
— Потому что они такие белые!
Каждый раз, когда вижу монашку (монаха, священника, какое бы то ни было духовное лицо) — стыжусь. Стихов, вихров, окурков, обручального кольца — себя. Собственной низости (мирскости). И не монах, а я опускаю глаза.
У Мандельштама глаза всегда опущены: робость? величие? тяжесть век? веков? Глаза опущены, а голова отброшена. Учитывая длину шеи, головная посадка верблюда. Трехлетний Андрюша — ему: «Дядя Ося, кто тебе так голову отвернул?» А хозяйка одного дома, куда впервые его привела, мне: «Бедный молодой человек! Такой молодой и уже ослеп?»
Но на монашку (у страха глаза велики!) покашивает. Даже, пользуясь ее наклоном над рубашечной гладью, глаза распахивает. Распахнутые глаза у Мандельштама — звезды, с завитками ресниц, доходящими до бровей.
— А скоро она уйдет? Ведь это неуютно, наконец. Я совершенно достоверно ощущаю запах ладана.
— Мандельштам, это вам кажется!
— И обвалившийся склеп с костями — кажется? Я, наконец, хочу просто выпить чаю!
Монашка над рубашкой, как над покойником:
— А эту — венчиком…
Мандельштам за спиной монашки шипящим шепотом:
— А вам не страшно будет носить эти рубашки?
— Подождите, дружочек! Вот помру и именно в этой — благо что ночная — к вам и явлюсь!
За чаем Мандельштам оттаивал.
— Может быть, это совсем уже не так страшно? Может быть, если каждый день ходить — привыкнешь? Но лучше завтра туда не пойдем…
Но завтра неотвратимо шли опять.
А однажды за нами погнался теленок.
На косогоре. Красный бычок.
Гуляли: дети, Мандельштам, я. Я вела Алю и Андрюшу, Мандельштам шел сам. Сначала все было хорошо, лежали на траве, копали глину. Норы. Прокапывались друг к другу и когда руки сходились — хохотали, — собственно, он один. Я, как всегда, играла для него.
Солнце выедало у меня — русость, у него — темность. — Солнце, единственная краска, для волос мною признаваемая! — Дети, пользуясь игрой взрослых, стягивали с голов полотняные грибы и устраивали ими ветер. Андрюша заезжал в лицо Але. Аля тихонько ныла. Тогда Андрюша, желая загладить, размазывал глиняными руками у нее по щекам голубоглазые слезы. Я, нахлобучив шапки, рассаживала. Мандельштам остервенело рыл очередной туннель и возмущался, что я не играю. Солнце жгло.
— До-о-мой!
Нужно сказать, что Мандельштаму, с кладбища ли, с прогулки ли, с ярмарки ли, всегда отовсюду хотелось домой. И всегда раньше, чем другому (мне). А из дому — непреложно — гулять. Думаю, юмор в сторону, что когда не писал (а не-писал — всегда, то есть раз в три месяца по стиху) — томился. Мандельштаму, без стихов, на свете не сиделось, не ходилось — не жилось.