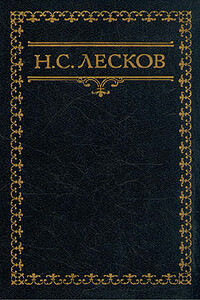Безвременье | страница 33
Кроткого, доброго Ковалёва полюбила вся тюрьма.
Тихим, печальным голосом рассказывал мне этот рябой, простоватый паренёк, как он закапывал в землю живых людей.
Это «спасительное» дело было поручено ему, потому что он был постником и оставался девственником до женитьбы. На «Божье дело» самым достойным признали его.
Закопав живьём в землю своих односельчан, он должен был сам заморить себя голодом. Все решили умереть.
Он рыл яму в погребе, и в неё ложились люди в саванах, с восковыми свечами в руках.
— Простите меня, православные! — кланялся им в ноги Ковалёв.
— Нас прости! Зарой, Бога для! — отвечали они.
Он подходил, трижды целовал каждого, прощался с живыми, как с покойниками, и брался за заступ.
Они пели похоронные песнопения, отпевали себя, молясь за себя, как за умерших.
Ковалёв начинал зарывать их с ног:
— Может, кто раздумает и попросит, чтоб не зарывать.
Но они ни о чём не просили, лёжа живые в могиле, — они пели, пока могли, шептали молитвы, осеняли себя двуперстным сложением крёстного знамения, пока Ковалёв медленно засыпал их землёй, ожидая стона или мольбы.
Ни стона ни мольбы до последней минуты…
И он торопился забросать комьями земли почерневшие лица, сравнивал и утаптывал землю над погребёнными. И шёл домой молиться и поститься, чтоб завтра похоронить ещё десять живых людей.
— Зачем?
— Потому началось уж исчисление[8]. Пришла бумага, а на ней начертано «Покой» «Покой», сиречь «печать». И каждого надо было прописать, кто такой и сколько годов. И сказано было, что исчислять всех людей в один день, и каждому значилась на его бумаге «печать». Начали думать, как ослобониться: не писаться да не писаться. На том и порешили. А тут разговор пошёл. кто исчисляться не будет, тех в острог сажать будут, и в Питере уж, слышно, такая машинка выдумана, чтобы человека на мелкие части рубить. Возьмут в острог да в машинке мелко-намелко и изрубят. Ну, и решили, чтоб похорониться.
И он зарыл десятки своих односельчан, своих родных, свою жену, своего ребёнка.
— Насчёт ребёнка разговор был. Решили-то похорониться по доброй воле, кто хочет. А ребёнок махонький, грудной, — у него воли нет. Как быть? Да жалость взяла, решили похоронить: зачем младенца оставлять, чтоб его изрубили…
И всё из-за боязни машинки, которую выдумали и прислали из Петербурга.
— Ну, хорошо. Ну, вот теперь ты который месяц сидишь в остроге. Видишь ведь, что никакой такой машинки, «чтоб людей рубить», нет?
— Теперь-то вижу!