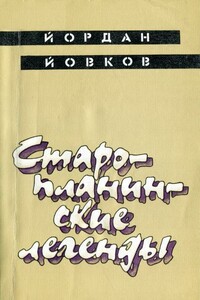Короли в изгнании | страница 51
– Все только и говорят об одной скандальной истории, в которой замешано ваше имя... – не глядя на него, строго заговорила Фредерика. – О, не оправдывайтесь! Я ничего больше не желаю слышать... Но только подумайте о том, что вы призваны оберегать. – Она показала ему на корону, притушенно сверкавшую под хрустальным колпаком. – Постарайтесь вести себя так, чтобы ни бесчестье, ни глумление не коснулось ее... чтобы вашему сыну не стыдно было ее носить.
Все ли ей было известно? Подписала ли она мысленно настоящее имя под женской фигурой, которую полуобнажило злословие? Фредерика была сильная женщина, и она так хорошо владела собой, что никто из ее приближенных не мог бы это сказать наверное. Но Христиан воспринял слова королевы как предупреждение, и боязнь историй и сцен, потребность этого слабохарактерного человека постоянно видеть, что на улыбку, в которой отражается вся его беззаботность, ему тоже неизменно отвечают улыбкой, вынудили его достать из клетки самую красивую, самую ласковую из всех своих обезьянок и подарить ее княгине Колетте. Колетта написала ему, он не ответил; он как будто не замечал ни ее вздохов, ни грустных взглядов, – он продолжал говорить с ней тем небрежно-учтивым тоном, который так нравился женщинам, и наконец, избавившись от угрызений совести, мучивших его тем сильнее, чем быстрее шло на спад его увлечение, освободившись от любви Колетты, в своем роде не менее тиранической, чем любовь его жены, очертя голову кинулся в водоворот наслаждений, – выражаясь ужасным, расплывчатым, худосочным языком хлыщей, он только и делал что «прожигал жизнь». В тот год это выражение было модным в клубах. Теперь, по всей вероятности, есть какое-нибудь другое. Слова меняются, зато неизменными и однообразными остаются знаменитые рестораны, где делаются дела, салоны, где много золота и цветов и куда публичные женщины высшего полета являются по приглашению к таким же, как и они; остается прежней раздражающая пошлость увеселений, для которых уже никогда не настанет обновление и которые вырождаются в оргии. Что не меняется, так это классическая глупость оравы хлыщишек и потаскушек, клише их жаргона и их остроумия, – их мир, несмотря на всю свою кажущуюся бесшабашность, не менее мещанский, не менее скованный условностями, чем тот, другой, не способен что-нибудь выдумать: это беспорядок в определенных рамках, это самодурство по программе сонной, одеревенелой скуки.