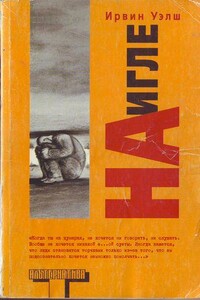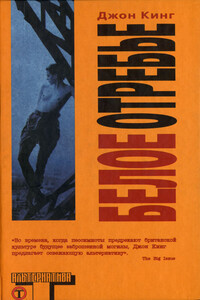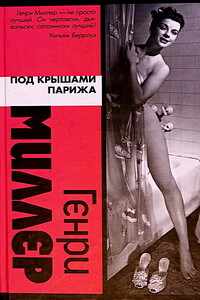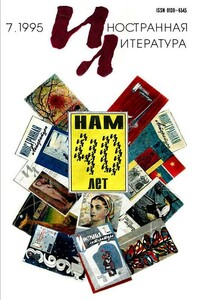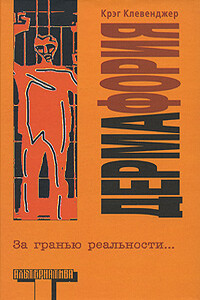Книга о друзьях | страница 82
Однако этим двоим потребовалась всего пара недель, чтобы разругаться вдрызг. Алека просто тошнило от всей этой «мистической зауми», которая так и перла из брата.
Меня больше всего занимал вопрос, что заставило Боба вернуться в родные пенаты.
— Тоска по дому, — объяснил он.
А еще он боялся, что потеряет свое американское наследство.
Одним из результатов возвращения брата была удивительная перемена к лучшему, произошедшая с Алеком после того, как он прочел книгу Свами Вивекананды, одолженную им у Боба. Эффект оказался не только удивительным, но и продолжительным. Алек радикально изменил свой образ жизни, он теперь был как никогда решительно настроен на то, чтобы стать архитектором. И если даже я никак не мог поверить в такой крутой поворот, то родители пребывали в настоящем замешательстве. Они приписывали это влиянию брата, но Алек упорно отрицал, утверждая, что достаточно самостоятелен в своих решениях и не нуждается ни в чьей помощи.
Все это напоминает мне цитату, которую любил повторять его брат. Она была из Гаутамы Будды и звучала так: «Я не обрел ничего от непревзойденного, полного пробуждения, и по этой причине оно называется непревзойденным, полным пробуждением».
Была еще одна цитата из Будды, которая ему нравилась. Это был ответ Будды на вопрос, заданный ему одним путешественником. Тот спросил его, кто он, а Будда ответил:
— Я человек, который проснулся.
Боба удивило, что мы с Алеком можем тратить столько времени на болтовню о литературе, вместо того чтобы обсуждать философию, заключенную в самой жизни. Имена Стриндберга, Бергсона, Бокаччо ничего для него не значили, тогда как для нас эти писатели составляли смысл существования. Быть может, эта «литература», которой мы так наслаждались, и была нашим спасением. Она помогла нам понять, что святость и грех похожи, что благочестие можно найти и в мерзости и преступности так же, как и в священных местах и в добрых христианах. Она помогла нам осознать, что идиот мог быть не только равным гению, но часто и выше его. Мы могли жить одновременно в нескольких плоскостях. Не было верного и неверного, уродливого и красивого, правдивого и лживого — все было едино.
Иногда мы, наверное, и вправду казались другим полными психами. То мы изображали из себя героев Чехова, то Горького, то Гоголя. А то и вовсе Томаса Манна. Почти год я подписывал свои письма «Ганс Касторп» (это из «Волшебной горы»). Жаль только, что мы ограничили себя одной лишь литературой и едва разбирались в живописи и музыке. Энтузиазма у нас было хоть отбавляй, а почтения мало. Слова «дисциплина» для нас не существовало. Подобно диким животным, мы пожирали все на своем пути, но я уверен, что это был прекрасный период в моей жизни. Одновременно и либералы, и либертины, никому не принадлежащие и никому не преданные, мы были действительно свободны.