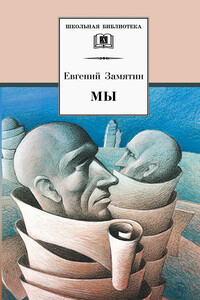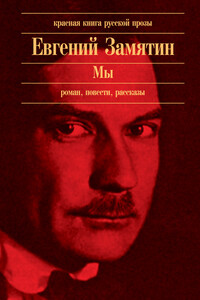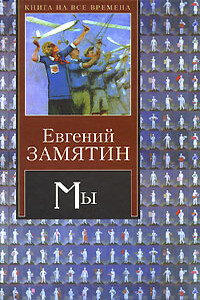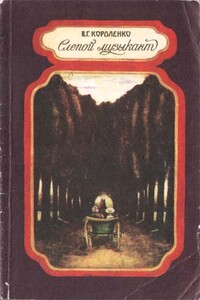Том 2. Русь | страница 40
— Что — там?
Молчит. По лицу у ней — облака: нависшие, литые — в глубокой трещине между бровей, легкие, розовеющие — в последней улыбке.
И — внизу, на Земле, где сейчас — день, где литые, синие, и легкие, алые облака, и летучими косыми парусами весенний дождь, и снова — солнце тысячи солнц на согнутых солнечной каплей травинках. Если прав Куковеров и все в сто раз быстрее, так это — в тот же самый бесконечный, вихрем несущийся день, и это — недели назад. Еще целые недели жить тому, кто сейчас мясом для ястреба лежит на желтой глине, и еще Rhopalocera не знает, что ему завтра умереть в черную куколку, и не знает Дорда, и в Келбуе мужики еще не арестовали Филимошку, и он даже пока еще просто Филимошка-голяк, а не председатель Филимон Егорыч.
Изба, заткнутые тряпками дыры в дырах окон — и черные дыры выбитых зубов во рту у Филимошки, он пыхает цигаркой, прислонился к косяку, ждет. Там, по дороге, загребая босыми ногами пыль, идет Филимошкина баба; на руках у нее ребенок — взяла чужого, у соседки: когда с ребенком на руках, Филимошка ее не бьет. Но нынче он — особенный, нынче и так не бил бы.
— Ну, баба, живо: на сход со мной пойдешь. Бумага из городу получена и чтоб бабы все тоже. Нынче, брат, строго!
Перед крыльцом съезжей — спины, от ветра вздутые пузырями рубахи, выдубленные солнцем голенища шей, галдеж, гомон. И вдруг на крыльце батюшки! Филимошка. Ты куда? тебе что?
— Товарищи, тише! Нынче — строго. Время зря терять нечего — секретаря мне выбирайте.
Над спинами, над головами чубарая голова будто поднята на шесте над всеми — тот самый лешачьего роста мужик, и лешачий голос:
— Это, стало быть, к колесу покупай телегу? А председателя — не надо? Филимошка:
— Председатель — я! — Грудь колесом, одну ногу вперед выставил, стоит, как буква Я.
— А почему же это ты, рвань коричневая?
— А потому сказано в бумаге: беднейшего. А кто бедней меня — ну, выходи? Ну!
Голова на шесте вертится, скребут руки в затылках: по бумаге — оно, будто, действительно, так, потому беднее Филимошки никого нету.
И Филимошка — председатель Филимон Егорыч, он уже не в избе — он в мельниковом с голландскими печами доме, у него весь Келбуй — вот тут, в кулаке — только сок брызжет: за все свои выбитые зубы, за все дыры, за тридцать голодных годов, за все сразу.
Косые паруса дождей, облака, солнце, ночи, дни — или час, секунда. И Духов День: на пороге, в шашмурс, согнув козырьком руку — глядит мать вслед Дорде, а в Келбуе на съезжей — под замком связанный Филимошка, белоголовые ребята липнут носами к окнам, у дверей крепко стоит мохнатый мужик с винтовкой. Фитиль подожжен, искра бежит к пороховой бочке, и Куковерову кажется — он начинен порохом: это страшно, это хорошо, и только надо все скорее, скорее, чтобы в часы втиснуть годы — чтобы все успеть…