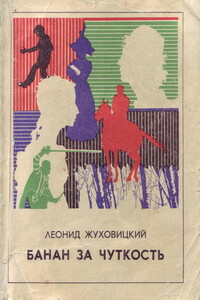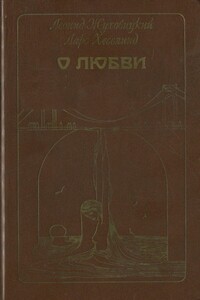Остановиться, оглянуться… | страница 27
Он сказал:
— Я эту компанию насквозь знаю!
— За два года ни одной политинформации…
— Чтобы я спокойно глядел, как народные деньги разбазаривают?
— У них документы, и у меня документы — я ведь тоже бумажки не выбрасываю…
— Думаете, случайно у них оба зама беспартийные?
— Эти настроения надо каленым железом выжигать!
—…а я убежден — если бы проверить их переписку…
И в конце, спохватившись:
— Теперь не культ личности!
Пока он говорил, я молча слушал, иногда даже сочувственно кивал. А когда кончил, показал ему одну из копий, оставленных мне Леонтьевым.
Хворостун совершенно спокойно прочитал свой собственный приказ об увольнении Егорова и с чувством сказал:
— Самая большая в моей жизни ошибка.
Я спросил:
— Кстати, почему вы ушли из института?
Пожалуй, насчет самой большой ошибки в жизни ему надо было сказать сейчас. Но эту фразу Хворостун уже израсходовал, и теперь сказать было нечего…
Еще минут двадцать он тянул резину, надеясь, что вдруг придумается какой–нибудь спасительный аргумент. Но ничего не придумалось, и уже на пороге он почти безнадежно сказал:
— Тут надо в корень смотреть… А то у нас как: кто сверху, тот и давит.
И тут же испугался:
— В отдельных случаях, конечно…
Когда он ушел, я спросил Таньку:
— Видала?
Она рассеянно кивнула и не без ревности глянула на меня исподлобья: в ее лохматой головенке наверняка уже шевелился обреченный на гибель росток — фельетон, который написала бы она сама, если бы не была бесправной практиканткой, допущенной из милости свидетельницей…
Ладно, у нее еще будет много своих фельетонов…
Я понимающе улыбнулся. Она сверкнула глазами — видно, хотела сказать какую–нибудь гадость. Но тут же засмеялась сама.
Я проводил ее по коридору. Мы шли молча, только у самых дверей учмолодежи она сказала:
— Все–таки редкостный подонок!
А у меня все еще стояла в ушах его последняя фраза: «Кто сверху, тот и давит»… Что ж, постараюсь, чтобы Хворостуну никогда никого не пришлось давить…
Я пошел к себе, велел Генке уклончиво отвечать на звонки и стал разбирать бумаги — копии, выписки, бесчисленные заявления Хворостуна…
Теперь злость была.
К концу дня я встретился с Танькой Мухиной в коридоре и сказал ей что–то вроде: «Ну как?» Фельетон клубился в голове, он заваривался крепко, и не вовремя было думать о чем–нибудь кроме — даже о Таньке Мухиной.
Видно, она это поняла, потому что нахально спросила:
— Король фельетона?
Я с вызовом ответил:
— Король!
Она чуть помедлила, трепаным носком туфли ковырнула плинтус: