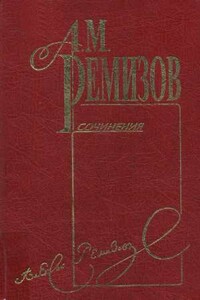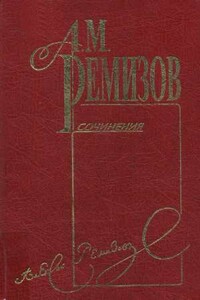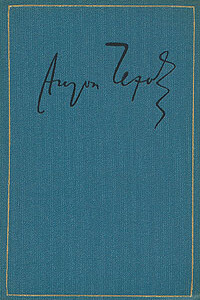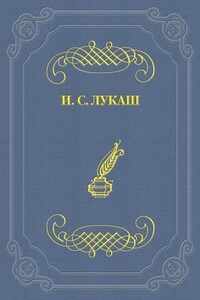Том 3. Оказион | страница 41
Поезд остановился.
Пассажиры и публика, прогуливаясь по платформе, трусливо и любопытно заглядывают в решетчатые окна.
Шла третья неделя, а этап все задерживался.
Казалось, прятался тот день, когда войдет старший и объявит, и все подымутся, загудят, споря и собирая рухлядь со всевозможными тайниками для табаку и инструмента.
Шла третья неделя, как, неожиданно для себя, я очутился в общей и жил озираясь, со слипающимися глазами, словно все время засыпал, а кто-то непрерывно будил меня или сам я поминутно просыпался от чего-то непременно нужного, что прикасалось ко мне и напоминало о себе.
Мои карманы в первую же ночь были вырезаны, а вскоре как-то среди дня, когда от страшного утомления и напряженного бодрствования, не помня себя, повалился я на нары, и сон легко и приятно потянул меня в какую-то сонную пропасть, бездонную и темную, подметки у меня были срезаны.
Шум, драки, ругань — постоянные и назойливые, скрутили все мои мысли. И казалось, они забились куда-то, а там, на месте их зияла в душе пустота ровная, страшная и тихая.
Только что прошла поверка, о надзиратели обходили окна, постукивая молотками о решетки и рамы.
В камеру принесли огромную парашу, и камеру заперли на ночь. Полагалось спать, но камера все еще шумела и галдела о разного рода притеснениях, об угарной бане и шпионстве.
Не раз у решетчатой двери появлялась черная фигура надзирателя.
— Копытчики, черти, ложись спать! Чего разорались? — покрикивал суровый, раздраженный голос надзирателя.
И кое-где забирались под нары, стелились.
Так понемногу и неугомонные успокоились и, теснясь друг к другу и зевая, дремали.
Стало тише, только там и сям все еще вырывался скрипучий смех и сиплый визжащий оклик. Лизавета — подросток-арестант шнырял по нарам, и мелькало лицо его, избалованное, мягкое, с оттопыренной нижней губой и желтизной вокруг рта.
И становилось душно. Душны были мысли, бродившие под низким черепом гниющей и мутной камеры.
Ясная ночь засматривала в окна тысячезвездным ликом своим, такая вольная и такая широкая.
Я лежал бок о бок со своим неизменным ночным соседом бродягой — Тараканьим пастухом.
Тараканий пастух обыкновенно по целым дням молчаливо выслеживал тюремных насекомых и давил их, размазывая по полу и нарам. На прогулке, сгорбившись, ходил он одиноко, избегая других арестантов, и только, когда мелькал женский платок или высовывалась в ворота юбка, он выпрямлялся, ощеривался и долго, порывисто крутил носом.